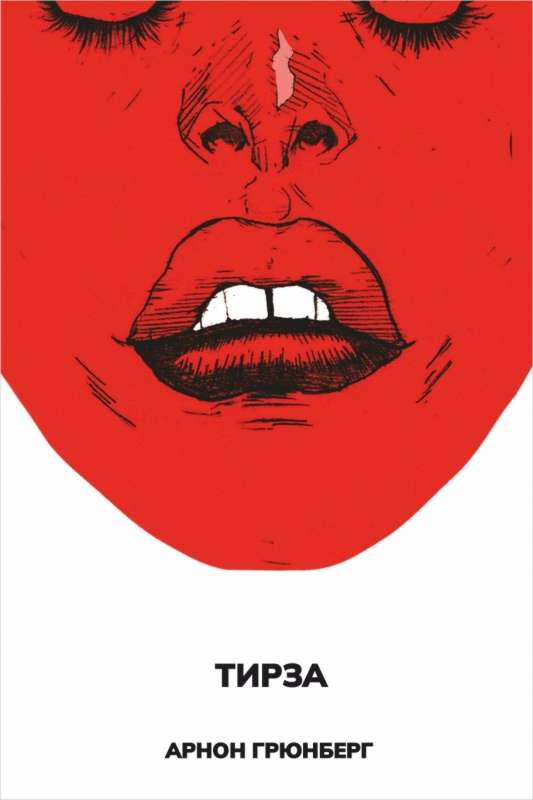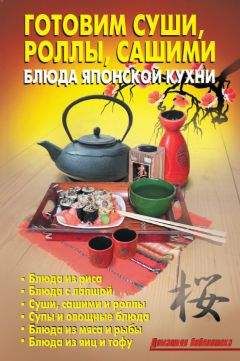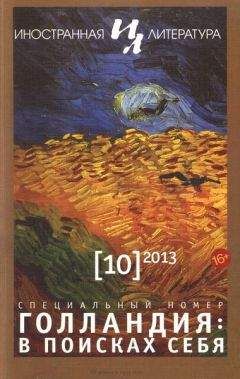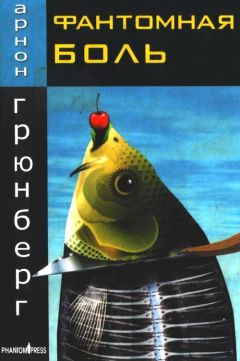что произошло. Я точно знаю, что именно тут произошло. Я же не идиотка. Ты что, думаешь, я полная дура? Она же со мной в одном классе, папа. Эстер училась со мной в классе.
Она как будто отвечала за него, как будто говорила от имени отца, который не мог произнести ни слова, как ему этого ни хотелось бы.
Он хотел прижать ее к себе и успокоить, но она оттолкнула его.
И расплакалась.
Истерика Эстер хотя бы началась со странного хохота, когда она делала вид, что хватает ртом воображаемые печенья.
Он не мог вынести, когда Тирза плакала. А сейчас все было еще ужаснее, потому что она плакала именно в этот вечер.
— Как ты мог это сделать?! — выкрикнула она. — На моем празднике, как ты мог? — И потом она только повторяла: — Почему на моем празднике? Почему на моем празднике? Почему на моем празднике?..
Как будто было бы лучше, если бы он пригласил Эстер к ним домой в четверг вечером, после ухода домработницы из Ганы. Как будто это не имело вообще никакого значения. Как будто тогда это было бы в порядке вещей.
Она отбивалась изо всех сил, но он все равно прижал к себе ее голову. Он должен был что-то сказать, он должен был хоть что-то вспомнить.
— Она меня соблазнила, — медленно выговорил он.
— Она тебя соблазнила? Да ей же столько лет, сколько мне, нет, она даже моложе. Как она могла тебя соблазнить? Как кто-то вроде нее может тебя соблазнить, папа?
Она вырвалась из его рук и вытерла глаза. Они были красные, как только что у Эстер.
— И даже если это было бы так, что это за оправдание? Что это за гнилое оправдание? Ты хоть понимаешь, кто ты такой? Ты извращенец, папа! Грязный извращенец!
Она разрыдалась еще сильнее.
Он обессиленно прислонился к дереву, ему показалось, он сейчас потеряет сознание.
— Она меня соблазнила, — сказал он снова и вспомнил, какой мокрой она была там, такой мокрой. Он хотел рассказать это Тирзе, он хотел сказать: «Тирза, моя дорогая Тирза, Эстер была такая мокрая, там, между ног», но он сдержался и сказал только: — Она была…
Он отшатнулся от дерева и сделал пару шагов к своей младшей дочери.
— Не прикасайся ко мне! — завизжала она. — Уходи!
Он остановился. Ему бы сейчас очень помог стаканчик гевюрцтраминера из Италии.
— Я не прикасаюсь к тебе, Тирза, — сказал он. — Я просто… Я просто… Я же еще мужчина. Я ничего не могу поделать, но я же еще мужчина.
Она закрыла глаза руками.
— Ты не мужчина, папа, — сказала она. — Ты мерзкий тип. Вот кто ты. Как я теперь смогу на тебя смотреть? Как я смогу к тебе прикоснуться? Как я смогу теперь думать о тебе как о моем отце? — И она опять закричала: — Уйди отсюда! Уходи!
С чего Тирзе вдруг нужно было вести себя так грубо и дерзко? Раньше такое позволяла себе только Иби.
Он протянул к ней руки.
— Но таковы мужчины, Тирза, — тихо сказал он. — Они такие. Тут ничего не поделаешь. Я не знаю ни одного, кто не был бы грязным. Мужчины грязные по природе.
— Уйди, — прошептала она. — Просто уйди, папа. Пожалуйста, уходи. Я знаю, потом все будет хорошо, все наладится. Но сейчас просто уйди.
Он остался в полной растерянности в нескольких сантиметрах от своей младшей дочери. Ему хотелось броситься ей в ноги.
— Давай вместе вернемся на праздник, — тихо попросил он. — Пойдем туда вместе, Тирза. Это же так здорово, это в честь твоих успехов, в честь последних экзаменов. Я буду жарить сардинки, как будто ничего не случилось. А ничего ведь и не случилось.
— Уходи, — прошептала она.
Он еще постоял рядом с ней, а потом медленно пошел в сторону сарая. Спокойная, легкая грусть, которая только что благодаря Эстер на несколько минут превратилась в безудержное счастье, сейчас перешла во что-то явно не спокойное и легкое, а пылающее и режущее, как венерическая болезнь, неспокойное, как вулкан, смертельное, как землетрясение.
В сарае горел свет.
Джинсы Эстер все еще болтались у нее на щиколотках. Но она сама сидела. На ведре.
Хофмейстер остановился в дверном проеме и посмотрел на девочку на ведре.
— Все в порядке? — спросил он.
— Я писаю, — сообщила она.
Только сейчас он заметил, что ведро уже не перевернуто. И почувствовал запах мочи. Он опять остро почувствовал все запахи.
Он развернулся и быстро пошел прочь. Быстро, как только мог, не шатаясь и не падая. В этот сарай ему больше не хотелось.
На кухне он налил себе полный бокал вина. Пару секунд он не думал ни о чем, а просто ощущал винный вкус.
После этого он скорее автоматически, а не потому, что в этом была необходимость, достал из холодильника последнее блюдо с сашими.
Когда он зашел в гостиную, оказалось, что его супруга взобралась на стол. Лампочки над ним были притушены еще сильнее. Вокруг нее столпились дети. Она делала вид, что поет под песню Долли Партон. Ну разумеется, под чью же еще. Она была ее кумиром.
Одна из ее грудей была ничем не прикрыта и очень хорошо видна.
Она изображала пение и стаскивала с себя по очереди предметы одежды, которые одолжила у старшей дочери.
В углу гостиной стоял Мохаммед Атта. Им занималась Иби.
«Джолин, Джолин, Джолин», — пела Долли Партон, и Хофмейстера передернуло от ее голоса.
Он не хотел никакой Долли Партон и никаких сентиментальных выкрутасов матери своих детей.
— Слезь оттуда! — крикнул он.
Но она его не услышала. Его никто не услышал. Музыка была слишком громкой, свет слишком тусклым, а его супруга извивалась и вытанцовывала так, будто от этого зависела ее жизнь. «But I can easily understand how you could easily take my man, but you don’t know what he means to me, Jolene» [6].
Они были в восторге, эти дети. Супруга Хофмейстера с танцами на столе. Для них она была прекраснее и аппетитнее, чем все его суши, сашими и сардины, вместе взятые. Они подбадривали ее. Они кричали ей, чтобы она танцевала еще, снимала с себя еще больше, хотя она и так сняла уже почти все. Слишком много. Даже джинсовую юбчонку Иби.
Их собственные родители вряд ли устраивали для них подобные шоу. Супруга Хофмейстера стала гвоздем программы в этот вечер.
С блюдом в руке он отправился к себе в спальню. Поставил сашими на пол и сел на кровать. Подпер голову