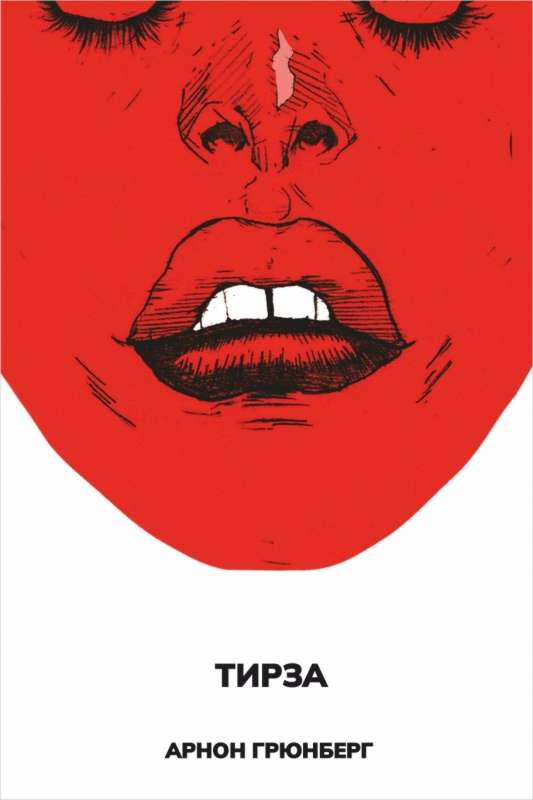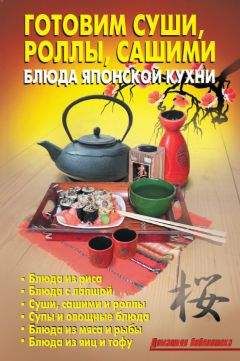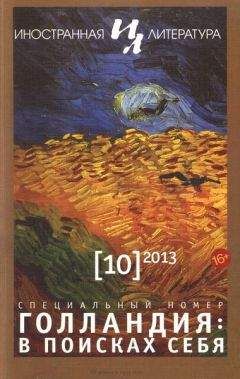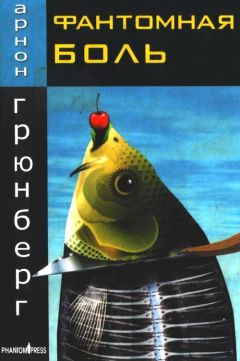очень хорошо играешь.
Когда он думал о слове «грязный», ему в голову пришли еще «брезгливость» и «боязнь грязных рук». «Вот кто я, — подумал он. — Жутко брезгливый человек, который при этом воспринимает собственное тело как грязный общественный туалет». И когда это тело стареет и приходит к распаду, брезгливость, а проще говоря, отвращение становится все сильнее.
— Я ничего не поняла, — сказала она. — Но какая разница. Мне так кажется. Какая разница, понимаю я тебя или нет. Главное, что ты не стал этого отрицать. И ты можешь просто сказать: «Мне очень жаль».
— Конечно, ты меня понимаешь, — сказал он. — Ты прекрасно меня понимаешь.
Она все еще держала руку на его шее, а ему сильнее, чем когда-то в жизни, хотелось итальянского гевюрцтраминера, даже если бы он сейчас мог просто открыть бутылку, это было бы огромное облегчение, эти звук и запах.
— Ты нужен мне как папа, — сказала она. — Ты понимаешь? Ты нужен мне как папа.
— Ты мне тоже нужна, — шепотом сказал он. — Тирза, ты мне тоже нужна.
Он вдруг сжал кулак и изо всех сил впился в него зубами. Словно хотел загрызть зверя, которого, как он думал, уже победил, безмолвного зверя, живущего в нем.
Снизу все еще доносилась музыка.
— Пап, ты был пьяный? — спросила она.
— Да, — с облегчением выдохнул он. — Да, это все алкоголь. В этом все дело. Я напился.
Теперь он смог встать. Теперь у него были силы. Простой и достойный ответ.
Но она все еще не отпускала его загривок.
— Значит, мне не надо беспокоиться, когда я буду в Африке?
— Конечно, нет, — быстро ответил он. — С чего бы тебе беспокоиться? О ком? Обо мне? Зачем?
— О том, все ли тут будет в порядке без меня. И если мама опять исчезнет. Ведь от этого ничего не изменится? Ты же будешь по-прежнему о себе заботиться?
— Конечно, — сказал он. — Я буду жить дальше. Как я всегда заботился о тебе, так же я буду продолжать заботиться о себе, даже когда ты будешь в Африке. Мне никто не нужен. Я же просто живу, разве ты не знаешь?
— Но, папа, — вздохнула она, — ты же этого как раз и не умеешь. Жить. У тебя совсем не получается.
По ее руке у себя на шее он почувствовал, что она плачет.
Он снова сунул в рот кулак. Это его успокоило. Впиться зубами в собственную плоть — очень хорошо отрезвляет мысли.
— А зачем ты вообще нас завел?
Он слишком сильно прикусил руку, на ней теперь остались отпечатки.
— Так захотела ваша мама, — сказал он. — Но как только я увидел вас, я пропал. Я так вас полюбил, что потерял голову.
— Вот как.
Он поднялся, поправил рубашку, заправил ее как следует в брюки. На секунду ему показалось, что у него опять все под контролем. Что он опять стал тем отцом, которым и хотел быть все эти последние годы, человеком, который выбрал отцовство своей профессией и в ней реализовывал свои амбиции. Не назойливо, но с душой. В игре слов он чувствовал нежность, в плоских шутках и анекдотах, которые должны были сделать его ближе к дочери и ее друзьям, скрывалась любовь, которая должна была остаться легальной.
— А что будет, — спросил он, — когда ты окажешься где-нибудь посреди Африки с Мохаммедом Аттой, а тебе там вдруг понравится какой-нибудь двухметровый негр?
— Тогда я пошлю тебе открытку, — сказала она. — Так и напишу: «Привет, папа! Я встретила тут двухметрового негра, и он мне очень нравится».
Снизу донеслось: «Bei mir bist du schön».
Они опять включили ту же музыку. Как будто все началось сначала.
Он пошел к двери.
— Пойдем, — позвал он. — Пойдем.
Блюдо с сашими так и стояло на полу, но он не стал его поднимать.
Осторожно, как древний старик, он спустился по лестнице.
В гостиной еще были человек пять-шесть. Госпожа Ван Делфен разговаривала в углу с кем-то из учеников. Повсюду стояли стаканы, валялись салфетки с остатками сырой рыбы, на полу полно риса, опять стаканы, пивные бутылки, остатки украшений, которыми он оформлял блюда с закусками. У стены рядом со столом стояла его супруга, плотно прижавшись к молодому человеку, имя которого Хофмейстеру так и не удалось запомнить. Они слились в страстном поцелуе. Мохаммеда Атты нигде не было видно.
В комнате пахло праздником. Прошедшим праздником.
Он обернулся к Тирзе.
— Где Мохаммед Атта? — спросил он.
— Шукри! — подчеркнуто громко сказала она. — Шукри ушел домой. Я сказала, что ему лучше уйти. Мне не хотелось, чтобы он все это видел.
И она показала пальцем на свою мать. В этом ее движении было так много всего. Мать, которая никогда не может сдержаться. Мать, которая никогда не хотела себя сдерживать.
На столе стоял чей-то недопитый бокал с вином. Хофмейстер схватил его и судорожно выпил остатки.
— Я вас отвезу, — сказал он. — Я вас туда довезу. Вы же улетаете из Франкфурта? Я отвезу вас в аэропорт.
Это была спонтанная идея, но она придала ему сил. У него вдруг снова появилась надежда.
— Не нужно. Мы можем доехать на поезде.
— Нет-нет, — замотал головой Хофмейстер, — позволь мне вас отвезти. Мы можем переночевать в Бетюве, в доме у бабушки и дедушки. Побудем вместе еще одни выходные перед вашим отъездом. Я не хотел сказать ничего плохого, когда назвал его Мохаммедом Аттой. Он похож, правда, тут ничего не поделаешь. Но не принимай это близко к сердцу, вообще не принимай ничего этого близко к сердцу.
— Посмотрим, — сказала Тирза. — Мы посмотрим.
Отец и дочь уставились на супругу Хофмейстера. Она в данный момент пребывала где-то в совершенно другом мире.
В том самом, где страсть и легкое опьянение игриво идут рука об руку.
— Ты знаешь этого мальчика? — спросил Хофмейстер.
Его дочь кивнула.
— Папа, — сказала она, — тебе не кажется, что вечеринка закончилась? Все прошло. Нужно отправить людей по домам.
— Да, ты права. Отправить по домам.
Праздник прощания со школой младшей дочери Йоргена Хофмейстера завершился. В каком-то смысле это было облегчением.
Он включил везде свет, сделал музыку тише и стал собирать стаканы. Одежда прилипала к телу, волосы липли к голове, пальцы липли к стеклу.
— Алё, Йорген! — крикнула его супруга. — Это вообще зачем, такая иллюминация?
Он подошел к ней со стопкой из трех составленных друг в друга пивных стаканов. Она не была раздетой, как только что, когда изображала Долли Партон, но по ее виду было понятно, что оделась она совсем недавно.
— Праздник закончился, — сообщил ей Хофмейстер четко и ясно. —