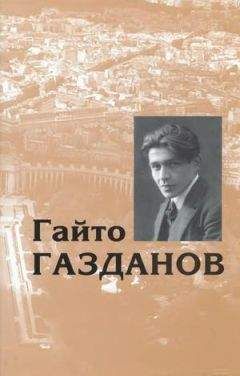После этой фразы Андрэ ничего не написал; он положил на стол ручку и задумался. Да, конечно, Дорэн был рожден счастливым человеком. Ни у кого Андрэ не слышал такого спокойного и смеющегося голоса, никому все огорчения, неудачи и обиды не представлялись такими легкоразрешимыми, как отцу. Андрэ вспомнил, как однажды, в раннем детстве, он горько плакал оттого, что сложный план проведения узкой мощеной дорожки от муравейника на опушке леса до старого корявого пня, обросшего тоненькими веточками с зелеными листьями, – весь этот план после нескольких дней работы оказался невыполнимым, так как Андрэ забыл о ручье, отделявшем муравьев от пня. Андрэ смотрел, как после дождя муравьи пробирались по грязи к берегу ручья и потом возвращались обратно, тревожно шевеля усиками. Ему казалось, что муравьям непременно нужно добраться до этого пня, – и он стал строить для них твердую дорогу, которой был бы не страшен никакой дождь. Он носил в карманах своих штанов камни и молоток, носил тяжелые ведра с песком и кое-как сделал дорогу до самого ручья. Потом он сел на землю и заплакал, – и пришел со слезами домой. – Что с тобой, Андрэ? – спросил его отец. Андрэ рассказал, в чем дело. Отец выслушал его с серьезным лицом, кивнул головой и сказал: – Ты совершенно прав, Андрэ, мы все это устроим; после завтрака я пойду с тобой, и мы будем работать вместе.
И оказалось, что трудного ничего не было; Дорэн проложил низкий мост над ручьем, утрамбовал дорогу, и уже вдвоем с Андрэ они довели ее до пня. Следы от этой дороги оставались и до сих пор, до теперешнего времени, когда Андрэ понимал, как смешон был его детский план.
Потом Андрэ подумал о своих вечерних разговорах с отцом, которые стали происходить только в самое последнее время, когда Дорэн впервые заговорил с сыном как со взрослым. Чаще всего это был один и тот же спор; он начинался с того, что Андрэ приходил к отцу спросить его мнение о том или ином историческом событии или о книге, которую он прочитал. – Ну, хорошо, – говорил Дорэн, – скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу, а я потом тебе сообщу, как я это понимаю.
И Андрэ начинал говорить; часто он высказывал то, что писал или собирался писать, иногда он касался вопроса, который все время не давал ему покоя, – вопроса о Мадлен; но он делал это в такой отдаленной форме, что отцу в голову не приходила мысль, что речь идет о его жене. Но всякий раз, когда Андрэ упоминал о любви, Дорэну делалось и стыдно, и хорошо в одно и то же время; стыдно потому, что он был женат на Мадлен, и хорошо потому, что он вспоминал о матери Андрэ. Впрочем, он сдерживался, – и только один раз посадил Андрэ к себе на колени, – точно Андрэ было восемь лет, – и сказал ему:
– Андрэ, ты знаешь, как я тебя люблю?
– Знаю, папа.
– Но ты не знаешь еще одного, – сказал он с непривычным для Андрэ волнением, – того, что ты похож на твою покойную Мать.
И после этого целых два дня Анри Дорэн был молчалив и задумчив.
Но чаще всего разговоры были иными. С удивительной для мальчика ясностью Андрэ замечал и видел много печального во всем, что его окружало; и именно такие вещи обычно привлекали к себе его внимание. Все, что было шумно, радостно и буйно, было ему неприятно. Анри Дорэн, говоря с ним как со взрослым, – это очень льстило Андрэ, и он понимал, что это ему льстило, и сердился на себя за это, но своеобразного удовольствия преодолеть не мог, – возражал ему:
– Ну вот, Андрэ, я понимаю твой взгляд. Ты говоришь, что все печально и нехорошо. Даже не входя в обсуждение этого, а просто так, фактически, если хочешь, – ведь, это неверно. Посмотри вокруг себя, – сколько ты увидишь радости. Вот Джек бежит тебе навстречу, – разве он не радуется?
– Джек – это собака, – отвечал Андрэ.
– Андрэ, Андрэ, – укоризненно говорил Дорэн, – ведь ты занимаешься зоологией, значит, ты не должен преуменьшать значение животных, ты должен знать, что в известном смысле Джек совершеннее нас с тобой.
– У Джека нет разума в человеческом смысле, – настаивал Андрэ, – а есть инстинкт. Инстинкт – это потребность питания, размножения и движения, необходимого для того, чтобы мускулы не сделались дряблыми, – вот и все. А разве у собаки может быть какое-нибудь мнение о том, что все хорошо или все плохо?
– Не знаю, не знаю, может быть, да. Вот один человек заболел и умер; его собака не отходила несколько дней от его могилы и через несколько дней там околела, хотя была, казалось бы, совершенно здорова. Какой же это инстинкт? Но оставим это. Разве ты не можешь себе представить бесконечно умного человека, который все видит и все понимает, – насколько это в человеческих возможностях, – и находит во всем одно только хорошее?
– Нет, папа, такого человека не было.
– А Франциск Ассизский, Андрэ? Ну, конечно, Андрэ, Франциск Ассизский, – и Дорэн улыбался совсем так, как он улыбался маленькому Андрэ, когда разрешал стоявшую перед мальчиком трудность, и все оказывалось просто и необыкновенно хорошо, – вот видишь? Он знал очень много и все понимал, – и был неизменно радостен; значит, это возможно, значит, это было правильно.
– А я не могу, – упрямо говорил Андрэ.
– Потому что ты многого не понимаешь. Не обижайся, Андрэ, понять теоретически – это одно, а почувствовать – это другое. Ты еще не знаешь очень многих чувств, мой мальчик. Вот подожди, мы поговорим с тобой через пятьдесят лет, – и Дорэн начинал шутить. – А если несчастье, папа? Ну, вот, например, катастрофа или… – Андрэ запнулся и потом с трудом сказал: – или измена любимой женщины. – Он употребил такое книжное выражение, потому что говорил об этом в первый раз с отцом.
– Ах, Андрэ, до чего ты любопытен. Ну, хорошо: катастрофа, – что такое катастрофа? Если это смерть, то все кончается; если это не чья-либо смерть, а изменение, то подумай, сколько радости тебе предстоит; ты изменишься и потом в измененном состоянии будешь снова узнавать все те наслаждения, которые ты знал раньше. Это вся жизнь сначала. Что же касается измены… видишь ли, мой мальчик, любимая женщина не может изменить.
– А если она все-таки изменяет?
– Откуда ты это знаешь?
– Мне сказали.
– Значит, это ложь.
– У меня есть неопровержимые доказательства, я видел, как ее целовали.
– Значит, были какие-то ужасные обстоятельства, заставившие ее так поступить, – обстоятельства, которых ты не знаешь и которые ее совершенно оправдывают. А если и их нет, то, значит, ты ошибся: она не любимая женщина. Но это редко, Андрэ, это исключения. Впрочем, здесь, в этой области, я даже не имею права с тобой спорить, потому что я это знаю, а ты в этом невежда. Видишь ли, Андрэ, у тебя есть один крупный недостаток для оппонента в таких вопросах.
– Какой, папа?
– А тот, – Дорэн улыбнулся с едва заметной мягкой насмешкой, – что моему умному сыну, который все знает, – только пятнадцать лет. Voila, monsieur[98]. А теперь спокойной ночи. И не надейся, пожалуйста, читать до утра; я тебе все равно помешаю. Более надоедливого отца ты не мог бы себе выбрать.
«Анри Дорэн, мой отец, родился, чтобы быть счастливым».
Андрэ еще раз перечел эту фразу. Было уже очень поздно. Джек спал, положив голову на лапы. – Почему папы до сих пор нет? – с внезапной тревогой подумал Андрэ.
Он заботливо постелил себе постель, аккуратно растянув простыни, поставил на ночной столик лампу с зеленым абажуром, достал с полки «Красное и черное» Стендаля, заложенное шелковой закладкой на триста двадцать восьмой странице, он даже успел, разворачивая книгу, прочесть:
«Mathilde croyait voir le bonheur. Cette vue toute puis-sante sur les ames courageuses liees a un esprit superieur eut a lutter longuement contre la dignite et tous sentiments de devoir vulgaires»[99].
Отец все не возвращался. Тогда Андрэ надел пальто и вышел на дорогу; мгновенно проснувшийся Джек пошел за ним.
Андрэ долго стоял и всматривался в темноту, но ничего не было видно. Шоссе с примерзшими к земле маленькими камешками смутно белело перед глазами Андрэ, исчезая в двадцати шагах от него, точно безмолвно провалившись в пропасть. Время от времени скрипели и качались от ветра деревья, которыми была обсажена дорога; было очень холодно, пустынно, нигде не было видно огня. Джек протяжно зевал, потом настораживался, подняв уши, но ничего не появлялось из темноты. Вдруг Андрэ заметил, что уши Джека давно уже опять насторожены; тело собаки подалось вперед, точно Джек был в нерешительности – бежать или стоять на месте. Тогда Андрэ различил едва слышный издалека шум, состоящий из шуршанья шин о землю и тихого звука мотора. Андрэ знал, что в пятистах метрах от дома шоссе делало крутой поворот; по-видимому, шум от смещающихся колес и был тем неясным вначале звуком, который услышал Андрэ. Потом далеко впереди в темноте появились два огня, странно танцевавшие в воздухе – точно автомобилем управлял совершенно пьяный человек, ехавший зигзагами. Тревога охватила Андрэ, он побежал навстречу этим огням; перегнав его, с лаем туда же помчался Джек. Андрэ добежал до автомобиля, распахнул дверцу и увидел, что отец сидит бледный, вцепившись в руль ослабевшей рукой в кожаной перчатке. Он не улыбнулся Андрэ, как улыбался всякий раз, когда его встречал, – и только сказал ему срьгоающимся голосом: