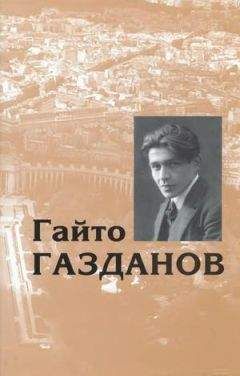– Андрэ, я очень плохо себя чувствую, довези меня, пожалуйста, до дома.
Андрэ с трудом помог отцу пересесть дальше от руля и медленно, путая скорости и заставляя автомобиль двигаться толчками, от которых Дорэн болезненно морщился, доехал до дома. Он разбудил слугу отца Жозефа, и вдвоем они помогли Дорэну подняться наверх и уложили его в постель. Дорэн сказал Жозефу, с усилием произнося слова:
– Жозеф, вы разбудите аптекаря и возьмете у него аспирина и хины; скажите ему, что у меня еще сильные боли ниже груди, чтобы он дал что-нибудь против этого. Сделайте это, пожалуйста, поскорее.
Андрэ с непрекращающейся тревогой следил за каждым движением отца. Ему вдруг стало казаться, что Анри Дорэн может умереть, – и когда Андрэ думал об этом, все становилось так холодно и ужасно вокруг него, что он решал умереть вместе с отцом. Анри Дорэн нашел в себе силы улыбнуться Андрэ.
– Это пустяки, Андрэ, – проговорил он. – Ты понимаешь, я, по-видимому, простудился: у меня болит голова, и я неважно себя чувствую. – Он не сказал Андрэ, что во время дороги из Парижа в Sainte-Sophie несколько раз терял сознание. – Я приму аспирин и хину, высплюсь, и завтра утром мы устроим с тобой матч бокса в десять раундов.
По тому, что отец сказал о боксе, Андрэ понял, что ему очень плохо. Но он не успел об этом как следует подумать; вошел запыхавшийся Жозеф и принес лекарства.
– Я прошу извинения у monsieur, но так как аптекарь очень спешил, он не мог найти облаток и завернул в пакеты все, что вы требовали. Это хина, это аспирин, а здесь средство против болей ниже груди; аптекарь сказал, что нужно принять полторы столовых ложки.
– Хорошо, Жозеф, можете идти.
И, обратившись к Андрэ, Дорэн сказал:
– Побудь со мной одну минуту, Андрэ.
Когда Жозеф вышел, Дорэн продолжал:
– Ну, вот, Андрэ, все в полном порядке. Я приму эти лекарства и засну. Ты тоже иди спать, я тебя очень прошу. Ну, спокойной ночи.
– Спокойной ночи, папа, – ответил Андрэ шепотом. Но когда он был уже в дверях, голос отца вдруг остановил его:
– Андрэ, ты знаешь адрес Мадлен?
– Да, папа – ответил Андрэ, вдруг поняв, почему отец спрашивает его об этом. Но чтобы не встревожить отца и не дать ему понять, что он догадался он сказал: – А почему ты спрашиваешь?
– А я забыл, – Дорэн быстро и искусственно улыбнулся, – сто восемьдесят три или сто девяносто три – номер дома?
– Сто девяносто три.
– Ну, хорошо, спасибо.
Придя в свою комнату, Андрэ решил не раздеваться и не спать. Он взял опять «Красное и черное», сел в кресло и попытался читать. Но дальше «Mathilde qui croyait voir le bonheur»[100] он не мог прочесть; он ничего не понимал. Он закрыл книгу; неожиданная дремота вдруг овладела им, и он заснул.
Он проснулся, почувствовав, что кто-то толкнул его колено. Он открыл глаза; возле него стоял Джек. Все в квартире было тихо. Андрэ поднялся и на цыпочках пошел посмотреть, спит ли отец. Войдя в комнату, он увидел, что Дорэн лежит с открытыми глазами, неподвижно смотрящими прямо перед собой. Андрэ удивило и даже обидело, что отец не поглядел в его сторону.
– Ты не спишь, папа? – спросил Андрэ. Дорэн ничего не ответил. Андрэ заглянул ему прямо в лицо; но отец продолжал смотреть своим невидящим взглядом и не сделал ни одного движения. Страшная мысль о смерти пришла в голову Андрэ: он откинул одеяло и приложил ухо к груди отца; грудь была теплая, сердце билось. Ему сразу стало так легко, точно вообще ничего не случилось. – Тебе очень плохо, папа?
Дорэн не отвечал. – Он в обмороке, – подумал Андрэ, – но почему у него открыты глаза? – Он стал брызгать водой в лицо отца. Лицо не вздрагивало и не шевелилось, глаза оставались открытыми. Андрэ стало страшно.
Уже начинало светать, когда Жозеф по телефону вызвал врача из Парижа.
* * *
Анри Дорэн хорошо помнил ту минуту, когда, приняв сначала аспирин и то, что он считал хиной, – его немного удивило, что она показалась не очень горька, – он взял столовую ложку, лежавшую на ночном столике, насыпал туда средство против болей ниже груди и сразу проглотил это, запив водой. После этого он ничего уже не видел, не понимал и не слышал; он обрел способность думать только через много часов. У него ничего не болело. – Слава Богу, все кончено, – сказал он себе и хотел приподняться, но не мог. – Какая темнота в комнате, – продолжал он думать, – а я все же очень ослабел. Должно быть, уже утро, странно, что никого нет. Надо позвать Андрэ.
Но и Андрэ он не мог позвать. И тогда вдруг он понял, что не может пошевельнуть ни рукой, ни ногой, не может ничего сказать, ничего не видит и не слышит. – Я умер? – с ужасом спросил он себя. – Нет, этого не может быть; я бы, наверное, не мог думать. Я парализован.
И он опять забылся.
Он знал, что вокруг него ходят люди, открывают и закрывают ставни, день сменяет ночь, – но он ничего не видел, не слышал и не чувствовал. Он делал невероятные усилия, чтобы поднять руку, но ничего не получалось. Наконец его правая рука слегка шевельнулась.
Это произошло на третий день после того вечера, когда он принимал лекарство. Трое суток он пролежал пластом, как живой труп; его перекладывали несколько раз, доктор делал ему впрыскивания, но тело Дорэна оставалось неподвижным. Вызванная телеграммой Андрэ, встревоженная Мадлен приехала на второй день вечером и не отходила от постели Дорэна. Андрэ нельзя было заставить уйти из комнаты: часами он просиживал на кровати отца, все повторяя – папа, папа, – точно надеясь, что его голос вызовет отца из того страшного небытия, в котором находился Дорэн. Доктор сказал Андрэ, что его отец принял очень большое количество хины по ошибке и нельзя заранее знать, что теперь будет.
Андрэ первый увидел, что рука отца шевельнулась. Он принес ему карандаш и бумагу; но сколько он ни старался вложить карандаш в руку отца, пальцы Дорэна разжимались и ничего не выходило. Наконец к вечеру Анри Дорэн неуверенными буквами, останавливаясь и роняя карандаш, который Андрэ снова подавал ему, написал: – «Я ничего не вижу, не слышу и не чувствую».
И с этого начались улучшения. Утром следующего дня Дорэн мог уже двигать обеими руками; еще через день он уже сгибал ноги в коленях. Через трое суток, проснувшись, он услышал шаги Мадлен. Ему вспомнилось, как лицеистом самого младшего класса он забавлялся тем, что на секунду крепко зажимал уши и, когда вновь отнимал руки от головы, слышал сразу громкий шум. Так и теперь, – необычайная тишина вдруг наполнилась различными звуками и голосами – Андрэ, Мадлен, доктора, Жозефа и других людей. Потом он уже начал, – хотя и с большим трудом, – говорить. Первое, что он сказал, были слова:
– Позовите Андрэ.
– Я здесь, папа, – ответил голос Андрэ.
– Ты очень испугался, мой мальчик?
– Да, папа, – неожиданно захлебнувшись и заплакав, сказал Андрэ.
И в тот же день доктор, вызвав Мадлен, говорил с ней полчаса и кончил словами о том, что он совершенно ручается за полное восстановление здоровья Дорэна. – Но я боюсь, – прибавил он после небольшого молчания, – что он навсегда останется слепым.
* * *
И Анри Дорэн ослеп. Сначала он, как и все окружающие, думал, что зрение вернется к нему постепенно, так же, как слух и способность двигать руками и ногами; но силы его давно уже восстановились, а зрение не возвращалось. Он по-прежнему ничего не видел и только медленно и с ужасом привыкал к постоянной тьме, в которой жил.
То, что он не видел, вначале сильно мешало ему передвигаться; и ему казалось, что ему трудно ходить не потому, что он слеп, а потому, что ослабели мускулы ног. Он утратил чувство физического равновесия, он делал неверные движения, и если падал, то всегда очень неудачно, не успев защититься от падения вытянутыми вперед руками. Из него точно бы вынули какую-то пружину, делавшую раньше его тело гибким и создававшую естественное сопротивление всем внешним толчкам и столкновениям. Потом в нем выработалась другая привычка ходить и двигаться и безошибочное угадывание возникавших перед ним препятствий, которые представлялись ему как темные стены перед закрытыми глазами. Он уже не натыкался на стулья, на столы, на кресла; он легко находил дверь, – так как воздух в том месте, где находилась открытая дверь, был реже, чем воздух у стены. Прошло несколько недель, и Дорэн уже ходил по всему дому с уверенностью зрячего человека. И только тогда все начало с удивительной быстротой меняться в его представлении.
До этого Дорэн почти не думал о смысле постигшего его несчастья. Ему было очень тяжело, он знал, что все случившееся ужасно; но он считал, что отсутствие зрения есть лишь физический недостаток, очень тягостный и печальный, но больше ничего. Его по-детски радовала мысль о том, что он успел сделать в жизни все, что было необходимо, – как человек, который увидел грозовую тучу и еще до того, как началась буря, успел укрыться в надежном месте; он был обеспечен, с ним были любимый сын и жена, – чего же ему было бояться?