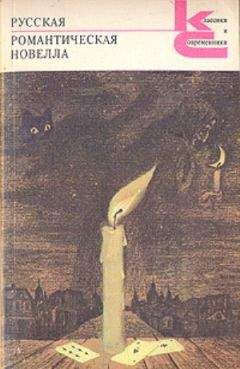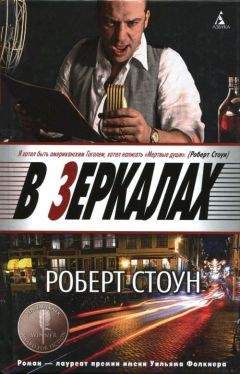Дама была снисходительнее: стала веселее, смотрела на меня с видимым удовольствием, и тихо сказала кавалеру: «Перестаньте, синьор! Возьмите письмо». А потом, обратись ко мне, с особенною лаской сказала: «С удовольствием исполню твою просьбу, а будешь любить меня?»
От этого странного, неожиданного вопроса божий мир перевернулся в глазах моих. Я медлил; дама с нежностью прибавила: «Что же, Лоренцо, будешь любить меня, — не теперь, а после, когда-нибудь, в свое время?..»
Она знает мое имя!.. — смотрит на меня с нежностью!.. — О, вечно, вечно! — закричал я. Дама протянула руку, я облил эту прелестную руку поцелуями и слезами.
— Прости! — сказала она тихо, — не забывай обещания!
Мулы тронулись, рука выскользнула из моих рук, и пыль нас разлучила.
Прибежав домой, счастливый ребенок, я предался воспоминаниям. На той же самой доске, где рисовал портрет ее Антонио, я начал карандашом припоминать черты прелестной женщины; недовольный, я хотел спрятать в стол мою неудачу и на свободе употребить все усилия к более успешному ее изображению. Подымаю доску… о, счастие!., нахожу тот же подмалевок; работа недалеко подвинулась. В тот же день я снял копию; ночь не спал, а со светом я перевел ее на медную доску, приготовленную для отца, желая увековечить образ красоты истинно восхитительной. Я представил ее в виде богини изобилия с золотым рогом, из которого сыпались только цветы эмблемы приятных надежд, любовных чувств и восторгов. Мне тогда был шестнадцатый год в исходе; с утра до ночи трудился я, и с небольшим в месяц картина была готова. Как теперь помню, я окончил ее к самому дню моего рождения. Матушка была в восхищении и от красоты моей богини, и от исполнения; она посылала ко всем знакомым и просила прийти полюбоваться успехами шестнадцатилетнего живописца. Между многими пришел и наш деревенский химик, отец Лука, единственный врач во всей Корреджио. Он поглядел на меня с изумлением.
— Где ты мог ее видеть? — спросил он, и я затрепетал.
— Во сне… — отвечал я робко.
— Странное сходство!
— С кем, отец Лука?
— С синьорою Анджеликой Валериани, которая приезжала к нам в Корреджио из Пармы, жила под этим именем более года в женском монастыре, и когда сестры заметили кое-что, чего и скрыть нельзя, просили ее оставить монастырь. По долгу, я посещал Анджелику, уговаривал ее переехать в дом обывательский: она долго не соглашалась: наконец, не более как с месяц тому, уехала в Парму с каким-то рыцарем…
Я трепетал всем телом, и к вечеру явился ко мне отец Лука, но уже не как поощритель и судья моего художества, а с банками и склянками. Горячка моя приписана была напряженному прилежанию. Усердие матери, более нежели познания отца Луки, скоро восстановило мое здоровье. В продолжение этого времени, Вероника получила от Антонио письмо, исполненное нежности и любви; матери — поклон и замечания насчет хозяйской бережливости, потому что за все огромные работы, которые он должен исполнить в Парме, он получит самую ничтожную сумму; мне — сухие наставления и неотходные попечения о матери.
Все обстоятельства смутно перемешались в голове моей, и с тех пор в жизни я не знал покоя; черная тоска оковала сердце; голова постоянно была как будто стянута горячим обручем; часто, без всякой причины, в душе моей вспыхивали странные, зверские желания, которых я через минуту не мог ни понять, ни определить. Когда я говорил, то оканчивал слезами; последние мои речи почти всегда были слезы. Между тем еще пролетели три-четыре месяца; деньги приближались к исходу; из Пармы ни слова! Веронике сыскался жених, по нашему очень хороший. На общем совете решили: идти мне в Парму и объясниться с отцом по всем статьям. Таким образом исполнялось и тайное мое желание: отыскать Анджелику, узнать, кто она, какие причины заставили ее требовать моей любви, кто сказал ей мое имя, и то и другое. О, много, много вопросов! Каждое мгновение мелькали новые; и рано утром, простясь с домашними, я отправился пешком в Парму.
Я пришел туда на рассвете. Город был наполнен папскими солдатами: они уже не спали, собираясь ко дворцу Висконти. Жители от шума военного также проснулись и спешили туда же; там ожидали папу, нового завоевателя и полного властителя Пармы. Невольно я увлекся за толпою и, по счастливому случаю, очутился у самой цепи папских стрелков, не пускавших народ на довольно обширную площадь перед дворцом Висконти. Я не мог опомниться от удивления: наша Корроджио вся поместилась бы, казалось мне, в этот огромный дворец; широкие окна, наполненные зрительницами в богатейшем наряде, казались мне въездами в пространные улицы; глядя на портал дворца, я считал Храм Петра Римского сказкою или по крайней мере незначительно больше пармского дворца. Паперть была покрыта толпою людей в богатейших костюмах, какие до того я видел только на картинках. Блеск золота, серебра и оружия ослеплял меня. Кардинальские слуги бегали взад и вперед, и пока я не знал, кто они, считал их князьями, детьми Эсте, Висконти, Фарнезе, которых имена повторялись так часто и у нас, в Корреджио. Наконец колокольный звон и далекие крики возвестили прибытие святейшего отца; толпа заволновалась, но я не мог ничего видеть, и глаза мои невольно смотрели на паперть, где также произошло волнение; расчистилась улица от середины ступенек к главным дверям, и по красному сукну спустился со свитою кардинал-правитель. Гляжу и — не верю глазам своим! В богатом, шитом золотом кафтане, держа в руках шляпу, спускался в числе спутников кардинала и Антонио, отец мой. Не успел я увериться, во сне или наяву все это вижу, как появился ряд тяжелых всадников и закрыл паперть; проехал — опять вижу отца, опять закрыло его огромное распятте с длинным рядом новых всадников, и так было несколько раз; наконец, появилась толпа ослепительного богатства витязей; вокруг меня все оглушительно загремело и пало на колени. Стрелок, видя, что я стою, пригнул меня, сказав: «Святейший отец!», и я распростерся. Когда я встал, на паперти последние уходили в широкие двери; из них один, остановясь на ступеньках, глядел в окна дворца; оттуда махнули ему платком, и он поспешил во дворец. Смотрю, приглядываюсь: это платок Анджелики, роскошно одетой; она продолжала смотреть на расходившийся народ; кто-то подошел к ней, и оба исчезли.
Господи! в один день и — столько ощущений! Обруч мой горел; черная тоска заговорила; мне стало страшно, тяжело! Стрелки разошлись, я бросился во дворец, но алебарды скрестились и грубое «нельзя!» образумило меня. — «Да здесь мой отец, Антонио Аллегри!» — «Ступай, ступай с богом! Знаем мы вас! С просьбой или с доносом. Не приказано. Ступай прочь!» — «Да я сын его…» — «Уходи же, а не то…» И алебарда поднялась над головою моей. Нечего делать! Я сошел, прислонился к платану и ждал, пока выйдет Антонио.
Через несколько секунд из дворца посыпались нарядные дамы и кавалеры. Теперь я ее увижу, — подумал я, пойду следом, и все объяснится. — Но, к моему огорчению, я видел каждого и каждую; Антонио и Анджелики я не видал. Двери дворца с визгом закрылись; алебардщики ушли в малые боковые двери, из которых по временам выходили кардинальские слуги и, стоя на паперти, тихо разговаривали; я решился подойти к ним, объяснил кого мне нужно видеть, и к удивлению узнал, что Корреджио живет за городом, у сестры, и давно уже туда уехал, вместе с нею, на кардинальских лошадях.
— У какой сестры? — запинаясь, спросил я.
— У вдовы Анджелики Валериани…
Холодный пот пробежал по лицу моему, руки и ноги окостенели; я присел на ступеньках.
— Что с вами? — спросил кардинальский слуга.
— Ничего. Устал; я пришел пешком из Корреджио. Но скажите мне подробно, где живет Антонио?
Мне рассказали, и я с трудом потащился, сквозь слезы расспрашивая о дороге у проходящих. Обруч горел, черная тоска обливала сердце… Иду мимо собора. Испуганный его великолепием, я невольно остановился перед величественным зданием. Как будто ангел господень облегчил мою голову и влил каплю небесной сладости в горечь, наполнявшую мое сердце! Невольно переступил я порог соборный; омочил пальцы в святой воде и положил на себя знаменье св. креста… Еще стало легче. Увидав алтарь и распятие Спасителя нашего, я распростерся на холодном помосте и с молитвою, казалось, уходил двойной недуг мой. Возрожденный благодатию, я не хотел расстаться с храмом; уселся на первой скамье и обратил взоры мои на огромную фреску, изображавшую взятие на небо божией матери. Глаза мои разбежались. Еще новая благодать! Во мне проснулось чувство художника, совершенно оставившее меня со времени последней болезни; я не мог надивиться превосходному письму, сладости колорита, грации положения лиц. «Это Антонио, — невольно сказал я, никто другой не может…» И в то же время я начал всматриваться в лик Мадонны; в чертах ее узнал я Анджелику и с ужасом бросился из храма. Все страдания мои возобновились; иду, расспрашиваю, бегу… Вот мост через Парму… вот садик… первые ворота… красный дом… приятный навес… стеклянная дверь… богато убранная комната… на скамьях разбросаны золотой кафтан и шляпа, те самые, в которых я видел его на паперти… Где же он?.. Отворяю другую дверь, — никого; третью, — великий боже! Антонио; он сидит и пишет картину; остановясь на минуту, он обратился к Анджелине, и, с чувством глядя на ее ангельское лицо, взорами, казалось, спрашивал: хорошо ли? Она, положив чернокудрую головку на плечо Антонио, отвечала нежным поцелуем; оба невольно взглянули на плетеную колыбель: там лежал спящий младенец… Боже! то был… — И старик замолчал.