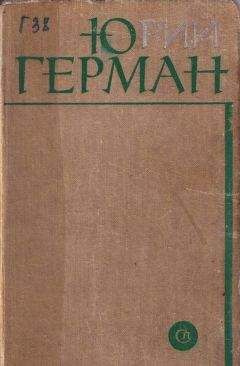- Четыре года, - целуя его, сказала она. - И знаешь ты, да забыл. Ты все сам, бывало, себя слушал, как все равно кенарь! И заливается, и щелкает, и свистит. А я что ж! Тебе не до меня было, ты занят был. Переживания были. Теперь небось посвободнее...
Он засмеялся и сказал:
- Напишу теперь на тебя заявление в комсомол, на твое прошлое с вором.
- Ну и что, - сказала она, - ну и пиши. Кабы ты от меня вором стал... Ты бывший вор, а теперь уж ты герой.
- Я еще пока что до героя не дотянул. На сегодняшний день.
- Будешь, - сказала она, - я баба, я все знаю. Я без тебя, бывало, лежу и думаю: вот дадут ему орден за большой подвиг. Или он будет летчиком. Или в стратосферу полетит...
- На луну без пересадки, - хмуро сказал он.
- Дурак, - сказала она, - хватит. На луну, на луну. Не будет тебе никакой луны. А, решил Мосторг обокрасть, - сама на тебя первая донесу и, когда шлепнут, не заплачу. Подыхай. Надоело.
Жмакин удивленно на нее покосился.
- И ничего особенного, - сказала она, - поплакала, будет. Черт паршивый, пугает еще, страхи наводит!
Толкнув его ладонью в грудь, она встала, всхлипнула и вышла из комнаты. Тотчас же вошел Корчмаренко в пальто, из-под которого болтались завязки подштанников. Жмакин встал ему навстречу.
- Отыскался, сокол, - сказал Корчмаренко.
Лицо у него было набрякшее, борода мятая.
- Пойдемте выйдем, - предложил Жмакин, - тут ребенок спит.
Клавдия тоже вышла вместе с ними.
- Ничего, можно здесь, в сенцах, - сказал Корчмаренко, - там Женька спит, а наверху жилец. Стой тут!
- Ну-с, - вызывающе сказал Жмакин. - Об чем разговор?
- Обо всем, - холодно сказал Корчмаренко. - Ты что ж думаешь дальше делать?
- Что хочу, - сказал Жмакин.
- Что же ты, например, хочешь?
- Мое дело.
- Ах, твое, - тихим от сдерживаемого бешенства голосом сказал Корчмаренко, - твое, сукин ты сын?
- Прошу вас не выражаться, - сказал Жмакин, - здесь женщины.
Клавдия вдруг засмеялась и убежала.
- Ну ладно, - тяжело дыша, сказал Корчмаренко, - давай как люди поговорим. Пора тебе дурь из головы-то выбросить.
Они стояли друг против друга в полутемных сенцах, возле знакомой лестницы наверх. Лестница заскрипела, кто-то по ней спускался.
- Федя идет, - сказал Корчмаренко, - давай, Федя, сюда, праздничек у нас, Жмакин в гости пришел.
- А, - сказал парень в тельняшке, - то-то я слышу разговор. Здравствуйте, Жмакин.
И он протянул Жмакину большую, сильную руку. Чтобы было удобнее разговаривать, все поднялись по лестнице наверх и сели в той комнатке, в которой Жмакин когда-то жил. Тут Жмакин разглядел Федю Гофмана, и тот разглядел Жмакина. А в комнате теперь было много книг, и на полу лежал коврик.
- Были мы у товарища Лапшина, - сказал Корчмаренко, - Клавдия была, и я к нему ездил, и Алферыч, и Дормидонтов. Хотели тебя на поруки взять, но ты как раз тогда психовал...
- Психовал! - согласился Жмакин.
- И Клавдию даже запретил к себе пропускать.
- Я за это не отвечаю, - сердито сказал Жмакин. - Может, у меня даже шизофрения была; может, я до сих пор параноик...
- Как, как?
- Неважно. Медицинские это диагнозы.
- Ну, диагнозы диагнозами, а все ж таки пришли мы все коллективно к такому заключению, что пора тебе все эти пустяки бросать.
- Извиняюсь, что вы называете пустяками? - спросил Жмакин.
- Воровство и жульничество, - сказал Корчмаренко. - Хватит тебе. Пора работать.
Жмакин взглянул на Гофмана и вдруг заметил в его глазах презрительное и брезгливое выражение.
- Так, - сказал Жмакин, - ладно. Все?
- Все, - сказал Гофман, - довольно, побеседовали.
- А в итоге? - спросил Жмакин.
- В итоге - иди ты отсюда знаешь куда, - багровея, сказал Гофман и тяжело встал со своего места. - Сволочь паршивая...
- Но, но, - крикнул Корчмаренко.
- Спасибо за беседу, - кротко сказал Жмакин.
Он снизу вверх смотрел на высокого Гофмана и рассчитывал, куда можно ударить. Но Гофман сдержался. "Струсил", - подумал Жмакин, повернулся на каблуках и сбежал вниз по лестнице. Дверь на улицу была открыта. Клавдия стояла на крыльце. Глаза у нее были пустые, измученные, и он сразу это заметил.
- Жуликом ты был, жуликом и останешься, - сказала она, - сломал мне жизнь. Иди, надоело!
Молча он глядел на нее.
- Не нужен ты мне, иди!
Он все стоял, бледный, косил глазами. Он так был уверен в ней. Только она одна оставалась у него. Теперь она отвернулась и заплакала.
На крыльцо вышел Гофман в тельняшке, с мокрыми, зачесанными назад волосами, с полотенцем в руке.
- Разговариваете? - спросил он.
И по тому, как он дотронулся до Клавдиного плеча, Жмакин вдруг решил, что этот человек любит Клавдию и ненавидит его.
- Ладно, - сказал он, - желаю счастья.
Помахал рукой и пошел по дороге.
А Клавдия побежала за ним, он слышал ее дыхание, но не останавливался. Она схватила его за руку и сказала:
- Не мучай меня, Леша.
- Я никого не мучаю, - сказал он, не глядя на нее, - я сам себя мучаю.
- И меня, и меня.
- И тебя, - сказал он, - и вот тебе слово: стану человеком - приду, не стану - не приду. Поняла?
Он был совершенно бледен, и голос его дрожал.
- К черту, - сказал он, - понятно? И этого холуя гони, я лучше его. Он вылитый жираф...
Клавдия засмеялась с глазами, полными слез, и легонько толкнула его.
- Иди.
- Да, иду.
Еще они посмотрели друг на друга. Она была такая некрасивая в эти секунды, такая жалкая, синяя, измученная.
- Иди, - еще раз сказала она, - иди, маленький мой, иди!
Он пошел обессиленный, давая себе страшные клятвы, что не обернется, но не выдержал и обернулся.
Жалко улыбаясь, она глядела ему вслед. Такой он и запомнил ее и такой любил всегда, когда ее не было с ним.
В театре и дома
Накануне премьеры Балашова и Лапшин провожали Ханина, уезжавшего на несколько дней в Москву. На Невском нельзя было протолкаться, продавали привязанные к палочкам букеты фиалок, а Катерина Васильевна жаловалась, что ей жарко даже в вязаной кофточке и что хорошо бы, наверное, искупаться. Ханин перекинул свой плащ через плечо, купил Кате много фиалок и весело хвастался:
- Не верите, что именно меня отправят на это дело? А я вот говорю лучше меня никто такой материал сделать и подать не может. Лика и та с этим соглашалась...
Сквозь стекла вагона было видно, как он ходил по коридору, точно по своей комнате, как он с кем-то быстро познакомился, как умело и удобно повесил в купе палку на крючок, а чемодан забросил в сетку. Когда поезд ушел и открылось свободное пространство путей, рельсов, стрелок и зеленых далеких огоньков и когда стало видно розовое вечернее небо, Катерина Васильевна взяла Лапшина под руку и сказала спокойным голосом:
- А я ведь завтра непременно провалюсь, Иван Михайлович.
- Это почему?
- Очень просто. Только поймите меня правильно, я пьесу не ругаю, но такое я играть не могу. Там одни только подтексты, я это ненавижу.
- Какие такие подтексты? - туповато осведомился Лапшин.
- Ну, это трудно растолковать! - В голосе ее прозвучало раздражение. Это, например, когда меня бросил муж и мне это горько, то я никому не говорю про то, что меня муж бросил и что мне от этого плохо, а говорю, например: "Вторые сутки не горит электричество и водопровод испортился", а зрители должны понимать, что я страдаю по мужу и что это у меня такой образ.
- Ну да?
- А я не могу, хоть это нынче очень модно. Я хочу нормальную бабу играть и завыть, как в жизни брошенные бабы воют. Я не хочу про водопровод.
- Так-то так, а Абрамов и Давыдов? - хитро напомнил Лапшин.
- Не Абрамов, а Варламов. И я вовсе не о том, - сказала Катерина Васильевна. - Я не о пьесах, а о себе.
Весь этот вечер Лапшин сидел у нее и с неприязнью слушал, как она несколько раз разговаривала по телефону с каким-то человеком, который, по-видимому, имел над нею какую-то власть и в то же время был неприятен ей, слушал, как она называла этого человека "милый мой" и как пожаловалась ему на него самого: "Вы знаете же, как все это мне нестерпимо и как ужасно я от всего этого устала, да, да, и от вас тоже". Потом она бурно и зло поиграла на рояле, то, что Ханин называл "Екатерина срывает характер", погодя попела, а Лапшин слушал и искоса поглядывал на фотографию "старого индюка", от которого, как ему казалось, исходило все грустное в жизни Балашовой.
Провожая Лапшина по коридору, Катерина Васильевна попросила завтра прийти в театр пораньше, и непременно к ней, потому что она хочет, чтобы он увидел ее в гриме и в костюме прежде, чем другие.
Он пришел в семь часов, ее еще не было, и сразу же столкнулся с человеком, которого про себя называл "индюком". Это был средних лет, выхоленный и, видимо, удачливый живчик, с тем значительным выражением взгляда, которым бывают наделены глупые и даровитые артисты, научившиеся играть умных людей и с успехом изображающие в театре те образы, в которых нужно "вылепить" интеллект. Несмотря на свои не слишком молодые годы, Днепров - так звали артиста - был отменно элегантен в кремовом шерстяном костюме и распоряжался у туалетика Балашовой совершенно как у себя дома: видимо, он принес сюда цветы какие-то бледные, наверное оранжерейные, и, расставляя их в вазочки, сказал Лапшину, как старому знакомому: