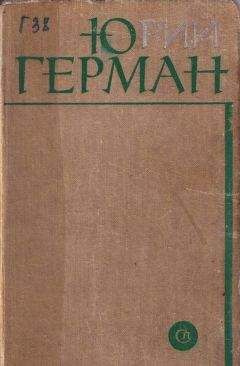- Ну? - откуда-то издали спросил Лапшин.
Жмакин огляделся. Иван Михайлович стоял теперь у окна, покуривая.
- Я на тебя, Алеха, надеюсь, - сказал он, шагнув к Жмакину. - И я надеюсь, и откровенно признаюсь, мне и народу моему очень важно, чтобы именно ты нам сейчас помог. Мы на тебя, как говорится, поставили, мы тебе давно поверили, еще до всяких доказательств твоей непричастности в этой истории с ножом. Я тебе по-товарищески говорю: нам с тобой трудно пришлось. И неприятности у нас были. Да, впрочем, что нам с тобой толковать, если ты, как я понимаю, просто кодлы боишься, жизнью дорожишь...
Жмакин хитро, боком взглянул на Лапшина, усмехнулся. И Иван Михайлович понял - этот маневр с воровским судом он применил зря, да и вообще, пожалуй, со Жмакиным хитрить больше не следует. В открытую так в открытую.
- Ну ладно, это я - из воспитательных соображений, - тоже усмехнулся Лапшин, - давай прямо. Нам Балага Корнюху не даст. Да и Корнюха не прост Балага сам не знает, где тот окопался. Если мы Балагу возьмем - последняя связь оборвется. Ты парень неглупый, должен понять. Кстати, Балага твои последние художества знает, как ты резался и в больнице находился.
- А еще что он знает?
- Знает, что из больницы ты убежал.
- Симулировал там?
- Допустим, в психиатрической и симулировал.
- Ладно, попробую, - поднимаясь, сказал Жмакин. - Но не обещаю ничего. Сорвется - не моя вина.
- Дров только не наломай! - вглядываясь во внезапно побледневшее лицо Алексея, не торопясь сказал Лапшин. - Вот Толя Грибков покойный...
- Толя Грибков, я слышал, хорошего человека спас своей грудью, перебил Жмакин. - Это не называется дров наломать...
Лапшин промолчал: что-то происходило со Жмакиным на его глазах, какая-то трудная внутренняя работа, и понять ее было не легко.
- Ладно, - сказал Лапшин, - иди, Алексей, действуй. Деньги-то у тебя есть?
- А полон город. Сумочки, бумажники, кошельки, часы. Все ваше - будет наше. Техника на грани фантастики...
Он криво и болезненно усмехнулся, еще стыдясь того, что происходило в нем. И Лапшин, понимая это, как бы пропустил его слова мимо ушей. Впрочем, пожалуй, и не следовало ему в его нынешнем состоянии предлагать деньги.
- Записочку мне дайте, чтобы не взяли меня ваши орлы раньше времени, и телефоны все ваши, и служебные и личные, - сказал Жмакин. - Более ничего не требуется. Согласно закону божьему.
Лапшин все написал, Жмакин аккуратно спрятал подальше, в маленький карманчик брюк.
- Пересуд мне еще будет? - погодя спросил он.
- А как же? Воровать-то ты воровал?
- Значит, получу по совокупности?
- Согласно науке, по закону.
- А за братишек Невзоровых, когда я у них финку из рук выкрутил и срок имел, - это в зачет или бог простит?
Иван Михайлович не ответил.
Взяв со стула кепочку, обмахнувшись ею, словно веером, Жмакин пошел к двери. Лапшин догнал его, повернул к себе за худое, мускулистое плечо и сказал сурово:
- У нас, когда человек на серьезное и опасное дело идет, принято желать ему удачи. Так вот я тебе, Алексей, желаю удачи...
- У вас человек притом пистолет имеет, не говоря об удостоверении. А у меня бумажечка от начальника - всего арсеналу...
Быстро и жестко взглянув на Лапшина своими зелеными окаянными глазами, Жмакин вывернул плечо и аккуратно закрыл за собой дверь.
Из той получки в мастерской у него еще оставалось рубля три с мелочью. Трамвай домчал его до Старо-Невского, очкастый Хмеля сам ему отпер дверь и отступил, открыв от изумления рот.
- Не бойся, дурашка, - ласково и быстро сказал Жмакин, - я за делом. Помоги как другу: денег надо...
Хмелянский отступил на шаг, потом еще глубже.
- Много денег надо, но ты не бойся. А если мне не веришь - можешь Лапшину позвонить. Да не бойся ты, чудило, ясно говорю, есть телефон?
И, наступая на совсем потерявшегося Хмелянского, Жмакин впихнул его в узкий коридор большой перегороженной коммунальной квартиры, заставил зажечь лампочку и назвал телефонистке номер коммутатора, а потом кабинет Лапшина. Иван Михайлович еще был на работе и нисколько не удивился, когда Жмакин попросил его удостоверить "бараньей голове" Хмелянскому, что все в порядке.
- Все в порядке! - подтвердил Лапшин. - Ты его, Хмеля, поддержи.
- Морально? - испуганным тенорком спросил Хмелянский.
- Поддержи по-товарищески. Ясно?
- А это действительно вы, товарищ начальник?
- Это я, Иван Михайлович Лапшин, кстати тебе нынче никакой не начальник. Вот так! Будь здоров.
Хмеля покрутил в руке телефонную трубку, взглянул на Жмакина совсем испуганно и повел его к себе в комнату. Окно здесь было распахнуто настежь, белую занавеску раздувал весенний ветерок. На столе стопкой лежали тетрадки и учебники, заношенные как у школьника.
- Патефончик приобрел! - заметил Жмакин. - Ты какую музыку больше любишь - танцевальную или посерьезней? Я-то лично за развлекательные мелодии.
Развалившись на стуле, он стрелял по комнате зелеными глазами, дразнил робеющего Хмелю, рассказывал ему, что теперь он у Ивана Михайловича первый человек, тот его даже на машине возит, а когда он болел, то Лапшин ему в клинику возил передачи. Вообще, жизнь налаживается, туговато пока с деньгами. Обещают платить тысячи четыре в месяц, на меньшее он, разумеется, не согласен, но на сегодняшний день еще затирает. Так вот, не будет ли Хмеля так добр и не слазит ли за своей кубышкой. Только быстренько, без затяжек, проволочек и бюрократизма.
- Вообще-то у меня деньги в сберкассе, - на всякий случай соврал прижимистый Хмеля. - Тебе сколько нужно?
- Пару тысяч нужно.
- С ума сошел?
- Ага, - охотно согласился Жмакин. - Я, между прочим, на излечении в сумасшедшем доме был. У меня даже справка есть...
И он полез было за справкой, но Хмеля совсем испугался, и Жмакин милостиво съехал с двух тысяч до пятисот. Пока Хмеля рылся за платяным шкафом, вздыхая и томясь особой, ни с чем не сравнимой тоской скупого человека, навеки расстающегося с собственными деньгами, Жмакин рассказывал ему, как в трамвае заметил у одного "придурка" толстый бумажник и не взял исключительно потому, что сейчас вышел на честную дорогу и хочет во всем подражать своему другу Хмелянскому, чтобы затем впоследствии выйти в большие начальники. Ведь и Хмелянский не всегда будет только грузчиком. И ему "засветит солнце на небосводе", и ему "подадут персональную автомашину".
- Вот, ровно пятьсот! - сказал Хмелянский.
- А там у тебя еще целая куча! - ответил Жмакин. - Ничего себе, хороший ты товарищ, не можешь подкинуть другу пару тысяч для нового, светлого пути! Ты ж меня сам, своей рукой на новые преступления толкаешь... Имей в виду, попадусь - тебя продам, на твою скупость все свалю.
Он болтал всякую чепуху, но взгляд его был таким же ищущим и сосредоточенным, как давеча у Лапшина, он что-то напряженно и трудно обдумывал и не мог окончательно решиться, не мог ухватить какую-то ниточку, веревочку. "Веревку!" - решил он и понял, что действовать будет веревкой, сам, и только потом позвонит, когда дело будет сделано, не наведет, а позвонит и скажет, что "повязал", - вот это будет номер, это будет шик, это будет работа. "Если он меня, конечно, сам первый не кончит, это он умеет, на такие штуки он мастак", - подумал Жмакин о Корнюхе и спросил у Хмели, не найдется ли еще ко всему прочему в придачу кусок хорошей веревки.
- Какой такой веревки? - обиженным голосом спросил Хмелянский. Сидя на краю белоснежной девичьей постели, он платком протирал очки. - Еще веревка теперь, оказывается, нужна...
Но веревка нашлась, не такой у Жмакина был характер, чтобы он душу не вытряс, если ему что понадобилось. Нашлась хорошая, короткая, крепкая, удобная веревка. Жмакин свернул ее кольцом и сунул в карман, потом подмигнул Хмеле и отправился в знакомый подвальчик - выпить и все подробно обдумать. Добродушные старички, упившиеся до того, - что стали совсем тихими, пригласили его за свой столик. Жмакин со скуки сказал им, что работает воспитателем в детдоме.
- И тяпаешь?
- Тем не менее.
- А дети?
- Французские дети все пьют, но исключительно вино, - сказал другой старичок. - И в Грузии пьют с малолетства...
Нет, здесь не подумаешь!
Опять Жмакин побрел по улице, думая на ходу. А когда все продумал и все решительно, как ему казалось, предусмотрел, легко вошел в мраморный с позолотой вестибюль бывшего ресторана, а теперь столовой номер девятнадцать, что в переулке неподалеку от Манежной площади. Ливрейный швейцар отворил ему дверь и низко поклонился.
- А, Балага! - вяло сказал Жмакин, но подал руку и внимательно вгляделся в набрякшее и нечистое лицо старика. - Здорово, Балага!
- Всё ходите-бродите, - почему-то на "вы" сказал тот.
- Хожу-брожу.
- А был слушок, что вас взяли.
- Болел я сильно.
- Резались?
- Ты и это знаешь, старый черт...
- Я все знаю.