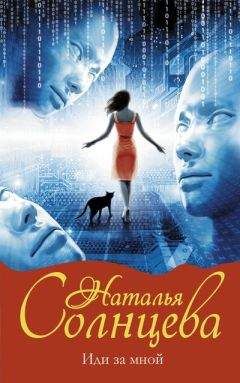Посреди улицы, какой-то плоской и слишком широкой без домов, выкопана большая квадратная яма, - должно быть, немцы готовили себе землянку и не успели ее накрыть.
На дне ямы убитый - наш, судя по суконной гимнастерке и синим диагоналевым галифе - офицер. Он лежит раскинув руки, разметав ноги в солдатских кирзовых сапогах, рослый, статный, на груди набор орденов и медалей, курчавая голова откинута назад. Курчавая голова, а лица нет. Должно быть, осколок попал ему в затылок, вышел через лицо - из кровавого месива торчит белая кость.
Я чуть задержался и пошел дальше - мало ли убитых, еще один. Лица мертвых обычно не запоминаются, этот же запомнился мне тем, что у него нет лица.
Вот и окраина деревни, вот сбегающий вниз обрыв, морщинистый, источенный ручьями, что стекают весной к Разумной. А Разумная отсюда приветлива берега опушены кустами, вдоль кустов вьются певучие тропиночки и воронено блестят укромные заводи, в таких неплохо клюют окуньки. За речкой - неистребимо зеленые, выглаженные луга, их дальняя окраина купается в голубом мутноватом мареве, глаз не осиливает толщу прозрачного воздуха. И на эту доверчиво распахнутую землю рядом со мной из окопов, выдолбленных в известковой кромке берега, уставились два пулемета с хищными стволами.
Доверчиво распахнутая земля под стволами. Бежали хозяева пулеметов, стволы молчат, но и в немоте их ощущается ожесточенная злоба.
Я повернул обратно.
Возле знакомой мне квадратной ямы стоит на насыпи солдат, смотрит на убитого кудрявого офицера, свободно разметавшегося на спине.
Солдат - тощий, нескладный парень с длинным, серым от пыли, пятнистым лицом. Он, как пастух на посох, опирается на винтовку, за спиной у него вещмешок с котелком, вид отрешенный, со стороны - ни дать ни взять искушенный человеческими несчастьями библейский пророк.
Кто-то из знакомых забрал документы и вместе с ними - ордена, чтоб сдать в штаб.
Я заглянул под каску в грязное тихое лицо солдата. Длинное лицо не то чтобы печально, скорей терпеливо - парень привык к смерти, привык к крови, если и ужасается, то про себя, знает: кричи, взывай, негодуй - никого не удивишь, не тронешь, не поможешь.
- Знакомый? - спросил я, кивая на убитого.
Он помолчал, обронил скупо:
- Да.
- Кто это?
- Командир нашей пулеметной роты Полежаев.
- Евгений Полежаев?
Парень покосился на меня из-под каски и не полюбопытствовал, откуда я знаю Евгения Полежаева, командира пулеметной роты при втором батальоне.
Курчавая, закинутая назад голова, широкая грудь, раскинутые руки... Кто-то уже взял у него документы, а вместе с документами наверняка - письма Любы Дуняшевой, а с письмами - ее фотокарточку...
"Попросите показать мою фотографию. На ней Вы увидите девчонку, весьма хрупкую, тепличную. Но эта девчонка, уверяю Вас, много пережила. Да, да, очень много..."
Я почему-то не верил, что она много пережила. Тот, кто действительно много пережил, так легко об этом не говорит. У Любы Дуняшевой переживания впереди.
- Не ты забрал его документы?
- Нет.
- И ты в них не заглядывал?
Парень недружелюбно покосился на меня:
- А зачем? Я его не по документам знал.
Солнце опускалось, косая тень от отвесной стенки вкрадчиво подбиралась к убитому, собираясь стыдливо его накрыть. Он лежал лицом к синему безоблачному небу...
"Встретьтесь с Женей и непременно расцелуйте его за меня".
Расцелуйте? Осколок попал в затылок, лица нет...
Я отвернулся и зашагал к себе. Шагал и глядел в сапоги, заляпанные глиной, в белых струпьях засохшей известки...
Солнышко сидел возле радиостанции, с налившимся кровью лицом орал в микрофон:
- Фриц! Не занимай волну! Ты, гад картавый! Убирайся к чертовой матери! Прием!
Обычная история: какая-то немецкая радиостанция случайно попала на нашу волну, мешала связаться с полком. Витя Солнышко считал: уж если он работает, то эфир - его монополия.
Всякие посторонние разговоры по радиостанции строжайше запрещены, а разговоры с противником - тем более. В другое время они могли бы кончиться печально: немецкие пеленгаторы засекут - лови тогда снаряды. Раз радиостанция - значит, штаб, а раз штаб - снарядов не жалеют.
Но сейчас немцы смяты; можно представить, какая у них там суматоха и путаница - не до пеленгирования.
Витя Солнышко, увидев меня, смутился, виновато заворчал:
- Колготят и колготят, слово не пропихнешь... - И вдруг без перехода просиял: - Пляши!
Я отвернулся, шагнул в угол.
- Пляши! Видишь?
Он показал мне открытку.
- Тебе пишет, не мне... "Вы вошли в число моих друзей..." На-ка вот, ты вошел, а я нет... Пляши, не то не отдам.
Я почему-то нисколько не удивился, что открытка от Любы Дуняшевой пришла в этот день, в этот час.
"Я немного приболела, лежу, пользуюсь свободным временем, чтоб поговорить со своими друзьями. А Вы вошли в число моих друзей. Почему Вы не ответили на мое письмо? Нехорошо забывать. Встретились ли Вы с Женей? Признаюсь Вам, до сих пор меня не оставляет светлая радость, что он жив, здоров и что у нас с ним есть общие знакомые".
Всего несколько фраз, много ли напишешь на обороте открытки.
Я тогда не ответил на ее письмо. Не смог.
Через несколько дней, в селе Циркуны, я потерял свою полевую сумку вместе с дневником, с письмами Любы Дуняшевой, с коллекцией трофейных авторучек.
А еще через несколько дней, под Харьковом, меня ранило.
Но номер полевой почты Любы Дуняшевой я помнил хорошо. В госпитале несколько раз принимался за письмо к ней. Начинал и каждый раз откладывал. Не так-то просто, оказывается, сообщить о беде...
"Встретились ли Вы с Женей?" Да, встретился...
"Расцелуйте его за меня..." Нет, этого я не сделал.
Не стал я и другом Евгения Полежаева...
Я трусливо молчал, наконец забыл номер полевой почты, знаю, что он начинался с цифры "18"...
Прошло ровно двадцать лет. Двадцать!
Адреса изменились, давно заросли старые раны. Спустя двадцать лет я решился наконец выполнить долг, написать письмо.
Любовь Дуняшева, дойдет ли оно до тебя?
P. S.
Похоже, что не дошло. Этот рассказ напечатали в журнале "Новый мир", переиздавали и в книге, а ответа все нет и нет. Где ты, Любовь Дуняшева?..
1963
КОСТРЫ НА СНЕГУ
Я, необстрелянный мальчишка и наскоро испеченный в тыловой школе младших командиров радист, с маршевой ротой попал в штаб полка, занимавшего оборону. Полк был гвардейским, орденоносным, прославленным. Солдаты комендантского взвода, торчавшие у штабной землянки, с презрительным невниманием глядели поверх наших голов. И где-то на окраине степи, точно такой же, какую мы меряли целый день, - красная глина и тусклая полынь, - вперепляс, весело трещали выстрелы, глухо рвались снаряды. Вот и фронт...
В стороне среди старожилов я заметил солдата. Издалека он показался низкого роста, но почему-то рядом с ним - другие солдаты, сонная с отвисшей губой лошаденка, запряженная в полевую кухню, сама кухня вместе с дымком, заманчиво пахнущим заваренной тушенкой, - все, все кругом казалось не настоящим, а каким-то игрушечным.
Я был голоден, ловил носом дымок от кухни, далекие выстрелы волновали меня, отвлекал рокочущий командирский басок из темного лаза в землянку, решавший нашу судьбу - каких новичков в какое подразделение послать. Я не заметил, как странный солдат исчез, лошадь, кухня, повар, люди приобрели устойчиво нормальный вид. И я забыл об этом солдате.
Но на следующий вечер с ним столкнулся.
В степь в пыльном, удушливом пламени садилось солнце. И в окружении закатного огня на меня двигалось что-то громоздкое, тяжелое и несуразное, словно вставшшая на задние колеса двуконная повозка.
Он шел спокойной раскачкой, и я заметил устрашающую покатость пухлых плеч, выпирающую из натянутой гимнастерки бугристую грудь, расслабленные бицепсы неестественно раздували рукава, пошевеливали вылинявшую ткань. А лицо... Казалось, взгляд вязнул в скупых рубленых складках, мясистые скулы, черные бровищи прикрывали глаза - их хватило бы на усы комбату, комроты и на взводного бы осталось.
Он прошествовал мимо, не одарив взглядом, - казалось, не заметил моего откровенного изумления.
Я оглянулся вслед, увидел необъятную спину, с лениво шевелящимися жерновами-лопатками и... И было еще кое-что, чему можно ужаснуться, - ноги в сапогах! Сапоги, должно быть, самого большого размера, с просторнейшими кирзовыми голенищами. И эти-то голенища не налезали на толстые, крутые икры. Они были распороты сзади.
И холмик землянки, замаскированный пучками вянущей полыни, и шест с антенной от полковой рации, даже сама степь с дымчатой кромкой горизонта казались игрушечными по сравнению с каменно-тяжелой, раскачивающейся фигурой.
Его звали Габдулла Япаров. Он был разведчиком из взвода пешей разведки.
Мы, новички, только на третий день стали замечать постоянно торчавшее возле него существо. Туго обтянутые обмотками тощие ноги колесом, пилотка, как расползшийся в печи пирог, не доставала до литого япаровского плеча, сизый нос бабы-яги, из-под него вечно торчит чадящая самокрутка в палец толщиной, на сухощавом сморщенном лице - внушающее на первый взгляд опаску выражение самоуверенной наглинки, светлые глаза колючи, быстры и сердито-насмешливы.