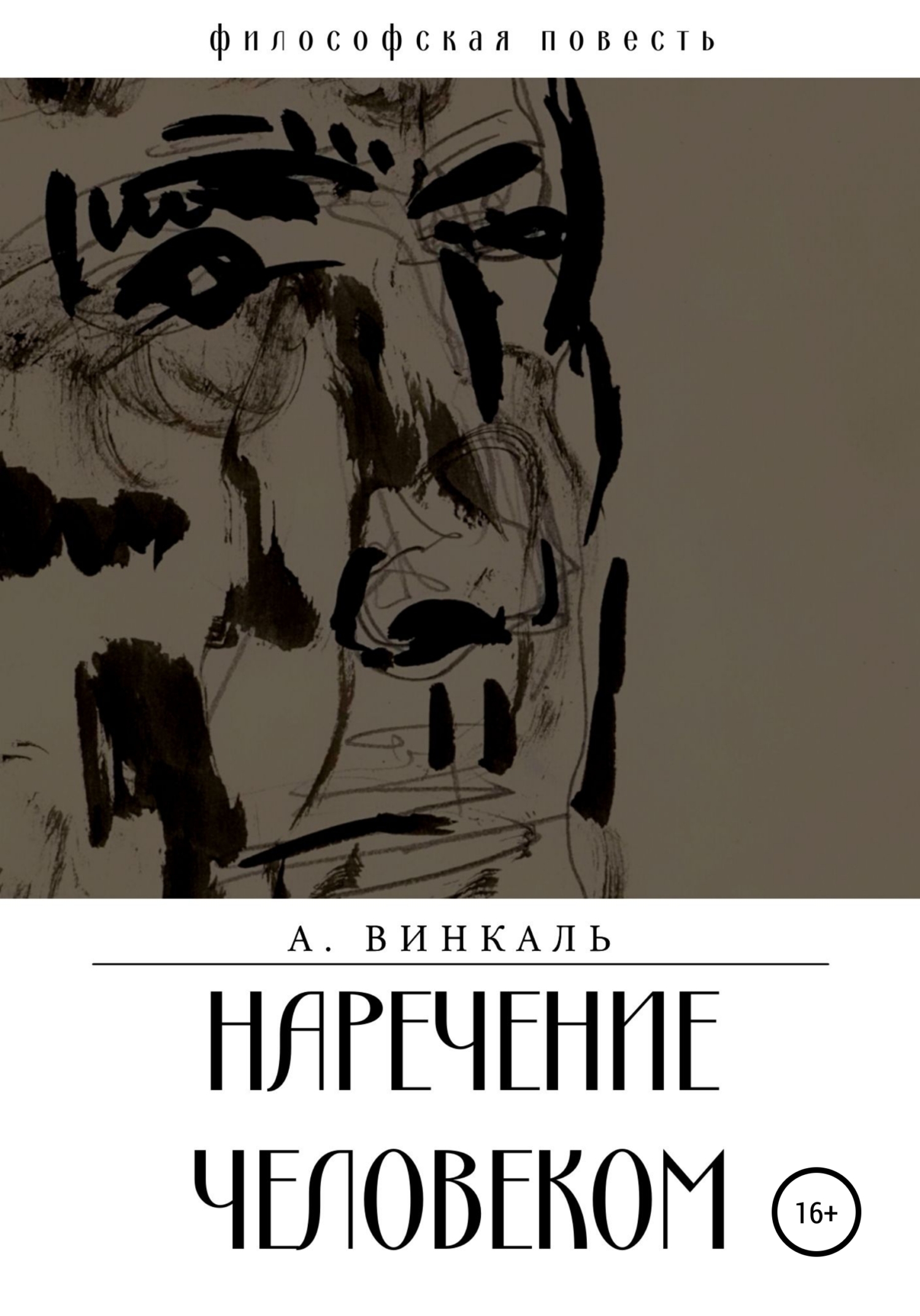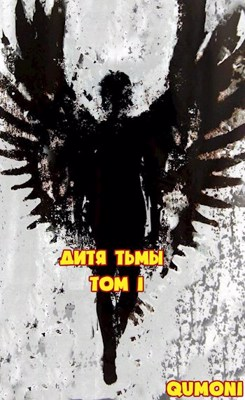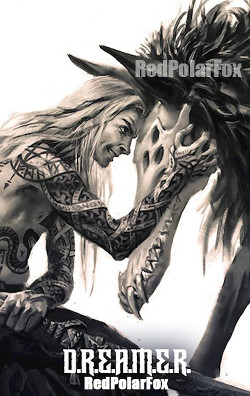взволнованно, кто с интересом наблюдая за диковинным явлением. Перешёптывались, посмеивались. Показалась вереница людей с вёдрами, переполненными водой, выплёскивающейся из краёв. Среди суматохи возник силуэт незнакомца, по одежде напоминающего подмастерья. Он неторопливо покинул сверкающую искрами пламени мастерскую, крепко сжимая в руках какой-то свёрток. Лицо его было бледно; под рёбрами гулко стучало сердце.
Как страшно, как невыносимо тоскливо обращаться к безмолвию.
Покинув мастерскую, человек миновал один или два коротеньких переулка – в ту пору разыгравшаяся непогода уже успела смениться затишьем – и очутился у старого заброшенного особняка. Там он наткнулся на прелестного вида сад, ухоженный и прибранный в отличие от дома, за ним явно следили и всеми возможными способами обхаживали.
Сад был ограждён невысоким заборчиком. Человек перелез через него и свалился в пахучие заросли: воздух вокруг наполнился благоуханием, затуманил сознание, опьянил, погрузил в состояние мгновенного гипноза. Вспомнились слова Сальваторис о мире, воплотившемся в одном-единственном чувстве.
Тысячей невидимых насекомых кишел сад, тысячей пьяниц, пребывавших во власти бешеной эйфории. В безумном танце кружил хоровод захмелевших, толкаясь, жужжа и стрекоча на непонятном, мудрёном языке. Заплутавший жучок, не рассчитав скорости, влетел человеку в ухо. Отчаянно перебирая лапками, он приятно защекотал по мочке уха – человек шумно рассмеялся и, нащупав его, схватил двумя пальцами, приблизил к глазам.
– Как наглядна жизнь букашки: вот она – при мне, налицо. Крохотный жучок. Иногда он даже я, – человек раздавил насекомое пальцами. – А я всегда при себе.
Вслед за словами прекратилось действие гипноза. Хмель сменился болью похмелья – трезвым сознанием жуткой действительности, от которой трудно спрятаться, тяжело забыться, уберечься. Где-то под кожей, в самых жилах, пульсирующих потоками крови, вскипело тревожное чувство.
Человек всё ещё сжимал в кулаке полумёртвое насекомое, бившееся из последних сил в надежде улететь из цепких рук неволителя.
– Да, я – при себе! – завопил в одолевшем его отчаянии человек. – Как больно, как одиноко, всё молчит; внутри, везде молчит. А я слушаю, слушаю с терпением, со вниманием. Тоска! – крепко стиснув зубы, он запрокинул голову к небу. – В то же время что-то кричит во мне, а я не слышу. Хоть убей, не слышу! Оно чрез меня кричит, оттого и не слышу, но слушаю: не могу не слушать! Оттого и человек я, оттого и наречён. Не слышно того никому, одному мне суждено слушать, принуждён я навечно. И, видно, жизнь человеческая в том. Больше скажу: моя жизнь в этом!
Вокруг непринуждённо крутилась мошкара, то садясь, то поднимаясь с нагих плеч, шеи, конечностей человека. Высокий особняк, могуче возвышаясь подле, бросал свою тень в сторону от сада, немного не достигая его, словно давал возможность всем присутствовавшим в саду насладиться ласковым теплом клонящегося к закату солнца.
Смеркалось. За последние часы человек так и не тронулся с места. Пока светило солнце, голова его прояснела; тревога улеглась и более не смела беспокоить. С наступлением ночи к горлу вдруг подступили слёзы. Человеку вспомнились стены пропасти и даже показалось, что он вновь среди них, в замкнутом кольце, где заместо каменной ограды – ограда неощутимая, небесная. Человек окинул беглым взглядом темнеющий небосвод, прикрыл веки и уткнулся лицом в землю, пытаясь скрыть слёзы. Никого, кто мог бы увидеть его, поблизости не было, но несчастному всё же хотелось укрыть свою печаль как можно надёжнее: во тьме своих глаз, в немоте языка, в глухоте ушей – он заткнул пальцами уши, больно царапая раковины отросшими по концам мизинцев ногтями. Отныне кругом ничего будто и нет, однако он всё же есть. Хоть убей, есть он! И не скрыться никуда, не спрятаться – вот ты, и всё при тебе, налицо. Твой долг – вынашивать в себе мир: подносят его на блюдце, не спросив и позволения, потому тоска. Сущее проклятие!
Ветер щекотал оголённую кожу человека, отчего по спине расходились колкие мурашки, будоражащие начинавшее дремать сознание. Он не давал себе спать, потому как знал, что отрады в сновидениях ему не найти – тусклые и мерклые, они не принесут облегчения, а поглотят его ещё большей тоской воспоминаний, ещё большей тоской одиночества. Он растёр влажные от солёных ручьёв щёки и бездумно замер до утренней зари неподвижным изваянием, бесчувственный к ласкам последних лучей солнца.
Никто не ожидал его возвращения. Повылезший из лачуг народ с изумлением наблюдал за перемещением человека по поселению; тот кидал равнодушные взгляды на людей, неспешно продвигаясь по одному ему известному направлению. Кто-то из толпы, начинавшей потихоньку окружать путника, наклонился к земле за камнем и, метясь в затылок человеку, метнул его. Со свистом камень пролетел мимо человеческих голов и, не достигнув цели, угодил случайному прохожему в спину. Человек бросил безучастный взгляд на своего недоброжелателя: глаза сверкнули минутной ненавистью, на что поселенец ответил тем же. Он хотел было ещё что-то крикнуть путнику, но чья-то рука крепко ухватила его за шиворот балахона, схожего с тем, что прежде по милости старика носил человек, – это был покалеченный камнем прохожий. Он с силой приложил недоброжелателя об землю, да так, что на лице того не осталось живого, не запятнанного кровью места. Люди, заинтересованные потасовкой, поотстали от человека. Тем временем путник скрылся из глаз. Последний, кто видел его, сумел проследить, как человек свернул за двумя молодыми деревцами и, минув иссохшие заросли кустарника, не оглядываясь, юркнул в дверной проём жилища, где обитал хромой старик.
– Истиной, оказывается, я жил и нынче живу. Вот тебе ответ, – громко продекларировал человек и развернул перед оторопевшим стариком помятый лист пергамента, оборванный и запачканный по краям, но целый в основе. Старик как-то весь сконфузился, затрясся телом и настороженно отполз от человека в дальний угол лачуги. Человек сделал вопросительный жест.
– Чего ты боишься?
Тут только он заметил в углу небольших размеров свёрток. Под узлами туго замотанной тряпки сопело и шевелилось нечто живое, хрипело, кашляло. Человек сделал несколько шагов – старик в страхе кинулся к свёртку, прикрывая его своим дряхлым немощным телом. Надменный смех огласил жилище. Человек смеялся, обхватив руками впалый живот; юродивый испуганно косился на него, теребя пальцами тряпку. Насупив брови, он старался не выказывать страха, но весь его вид говорил об обратном. Капли испарины выступили на морщинистом лбу.
– Беспокоишься о ребёнке? Или всё же о себе? Ну да не стоит об этом, хоть я и разочарован в тебе, твоей стойкости: да, я не ошибся, её