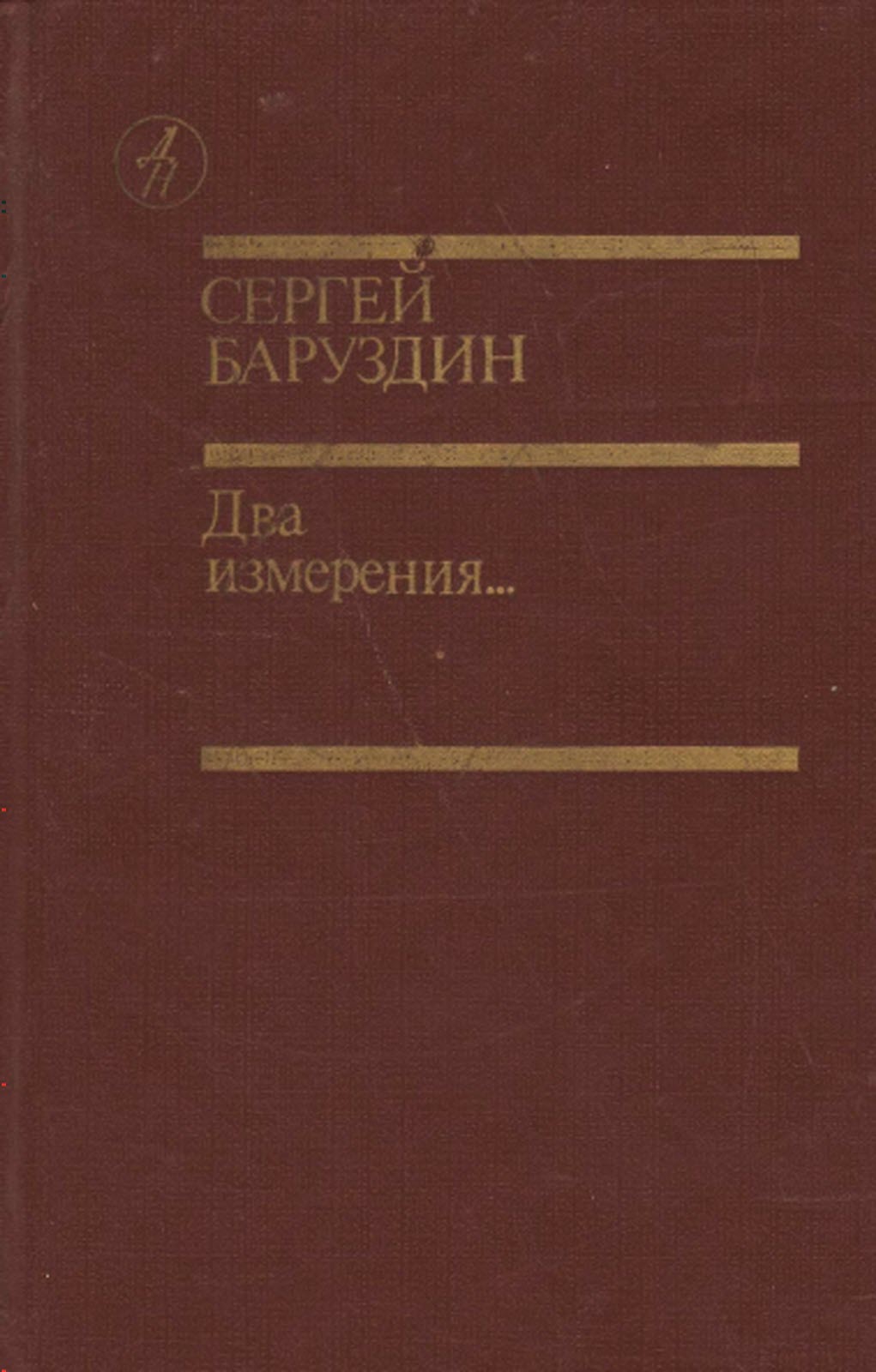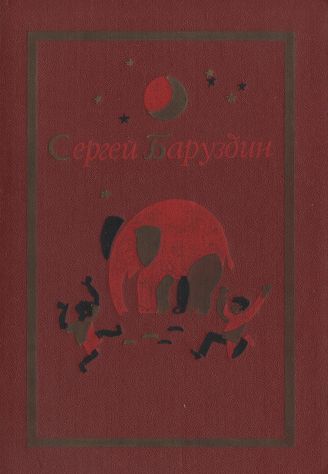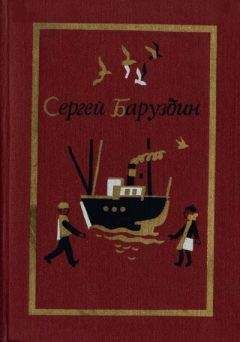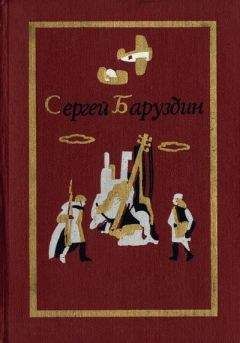песочек посыпан между строениями, а у клуба — асфальтированная дорожка.
Строения — казармы, дома начальства с семьями, плацы с препятствиями, склады и орудия под навесами, конюшни. У конюшен нет ни песка, ни дорожек… Один взбитый чернозем.
Они прибыли в Долину первого августа 1940 года.
Было жарко и сухо. Терпко пахло солдатским и лошадиным потом.
Историк Костя Петров, Константин Михайлович, учившийся когда-то в Москве в «Петерпаулыпуле», все время шумно восхищался лошадьми.
И он, Алеша Горсков, восхищался. Но, признаться, немного побаивался этих лошадей.
— Кость, а война с немцами будет? — этот вопрос почему-то чаще всего адресовали Косте.
— Не думаю, — говорил историк. — Там такая компартия! Тельман! А песни? Эйслер! Брехт! Эрнст Буш! И договор, наконец! С Германией! А не с кем-то! Молотов в Берлин ездил. Риббентроп — в Москву…
— О договоре не трепись! — рубил Саша. — Это дипломатия чистой воды. Может, нам выгодно, но все равно… Немцы уж пол-Европы захватили, а ты «не думаю».
…С лошадьми они уже познакомились. Драили и чистили конюшни. Лошади с непривычки брыкались. Может, потому, что они, тогда новобранцы, приехавшие из Ленинграда, еще были в штатском. Своих, старослужащих, лошади совершенно не трогали. А к новичкам относились настороженно.
Алеша, Саша и Женя пробыли в клубе полдня.
Но вдруг их неожиданно попросили оттуда.
Начальник клуба был доволен ими, но ничего не мог поделать, чтобы оставить их здесь.
— Я говорил: учебная батарея! Раз вы необученные… Начальству видней!
Их вернули из клуба в казарму — чистить конюшни, а потом вместе со всеми, такими же штатскими, как и их ленинградская команда, повели в город, в баню.
— Смирно! — крикнул старшина. — Ш-ша-гом арш! — И добавил совсем по-мирному: — Пошли, ребята!
На улицах города люди попадались редко. Но все-таки на них смотрели. Даже из окон. Смотрели со страхом, некоторые с удивлением, а может быть, и с любопытством: ведь они — советские.
Алеша и ленинградцы были одеты как-то еще прилично. Остальные новобранцы (откуда они? Никто пока не знал!) — ужасно. Было ощущение, что, уходя в Красную Армию, они натянули на себя самое худшее…
В Ленинграде Алеша ходил с отцом в Щербаковские бани.
Женька Болотин тоже вспомнил Щербаковские бани:
— Отец там любил пиво попить. И бани, конечно, классные!
Саша Невзоров говорил уже скромнее:
— А я в Щербаковских ни разу не был… Зато был на улице Некрасова в Бассейнах. Там тоже неплохо. Говорят, раньше буржуи мылись.
Все они, конечно, сникли, попав в армию. Но Сашу как-то особенно было жаль. В дороге он главный — со всеми предписаниями и документами. Сам военный из военкомата в Ленинграде так решил. А тут…
— Буржуи и в Сандуновских мылись, и в Центральных в Москве, — азартно продолжал банную тему историк Костя. — Я с отцом туда ходил, когда жил в Москве, но Сандуновские, ясно, лучше, чем Центральные! Там, ну, как в Елисеевском!
Историка Петрова, Костю, Константина Михайловича, тут же в бане быстро разоблачили:
— По части «Петерпаульшуле» ты все придумал. Какая «Петерпаульшуле» после революции?..
— А у меня там отец учился. Правда! — пытался оправдаться Костя. — А я в немецкую группу ходил. А потом в двадцать девятую школу. Она в Старосадском… Как хотите, проверьте!..
Но эта баня — в зарубежном (бывшем зарубежном!) городе Долина — очень интересно.
В бане их остригли. И не только головы. Остригли все. А парикмахер каждый сам себе. Потом они мылись и парились… И свою прежнюю гражданскую одежду уже больше не видели. Ее сложили в мешки с бирками.
Старшина батареи ругался, запихивая в очередной мешок старое барахло.
К одежде ленинградцев он относился спокойнее.
— У вас хоть одежда приличная!
Старшина выделялся по-прежнему, он запарился, да и хлопот у него хоть отбавляй!
Как зовут его, никто не знал, хотя Алешу очень подмывало спросить его, но он не решился.
«Товарищ старшина» и «товарищ старшина» — и так ладно.
Обмундирование старое, стираное-перестираное, ношеное-переношеное. Выданная одежда оказалась не по размеру. А нижнее белье… Оно или лопалось на тебе, или болталось, как на огородном пугале.
Старшина предусмотрительно принес иголки и нитки. Кто умел, тот что-то подшивал.
В казармы возвращались уже в форме. Чистые.
Старшина, кажется, доволен.
— Сорок минут отдыха, а потом — обед, — сказал он негромко, распуская строй перед казармой.
Они завалились на двухэтажные нары и сразу же уснули.
На обед их еле подняли.
После обеда опять сон — «мертвый час».
А после сна — конюшня.
Они драили их как могли.
Но лошади по-прежнему брыкались.
А лошади все-таки были прекрасны!
Почему-то ни в детстве, ни потом, в Академии, Алеше никогда не приходилось рисовать лошадей.
Только бронзовых гордых красавцев барона Клодта на Аничковом мосту.
Да мало ли что он раньше не рисовал.
Портреты стахановцев писал, а — Веру? Даже в голову не пришло. А сейчас, в первые дни красноармейской службы, вспомнил, пожалел. Маму не рисовал. Баб-Маню. И главное — отца. А ведь рисовал тогда других. И — запросто, шутя. Если в присутствии Женьки Болотина, то он и дружеские хохмы в стихах писал.
Домой он еще не собрался написать. А Вере написал — кратко. Сообщил и о лошадях. Совсем как бы между прочим: «У нас тут лошади. И я рад…»
Старослужащих лошади спокойно подпускали к себе. Старослужащие — это те, кто в армии второй год. Ну, а Хохлачева — подавно. Мягкий Хохлачев, который сопровождал их в баню, на самом деле был суров.
В казарме и особенно на конюшне:
— Красноармеец Горсков! Что вы делаете! — И следовали страшные слова: — Два наряда вне очереди!
Наряды сыпались как из рога изобилия, и никому пощады не было.
Чистили лошадей…
У Алеши скребница и щетка. Он ездовой. Он — «корень» у зарядного ящика. Это вне конюшни, на занятиях.
А тут две лошади его. Костыль — жеребец, Лира — кобыла. Две лошади. Они его пока еще не принимают. А между ними надо не только пройти, но и почистить их.
— Заходи! — командует старшина Хохлачев.
И они заходят. У каждого, «академика» и не «академика», по две лошадиных персоны…
Лошади бьют задами.
— Что вы делаете! — кричал Хохлачев, уже не ему, а, кажется, Косте Петрову, но лошади не пугались его крика. Наоборот, успокаивались и переставали брыкаться…
— Милая, хорошая моя, стань спокойно! И ты, милая, хорошая… — так Алеша разговаривал со своими двумя подопечными.
Чистка каждой — полтора часа. Выскрести, помыть, шерсть привести в порядок.
Стремена чистили толченым кирпичом. Надо растолочь кирпич, а потом