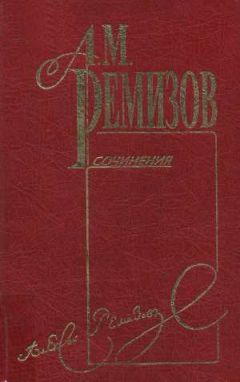За чтением проходили дни и вечера на чердаке. Совсем-совсем я затих, и на фабричном дворе не слыхать было моего голоса, да у меня его и не было больше, а какой-то и вправду «петух». Так продолжалось до осени. С наступившими холодами я перебрался в комнаты. Началось ученье. И опять беда – опять ломка: очки. В очках – это было грубое нарушение всего моего внутреннего мира – все во мне вывернулось – все повернулось другим. Я и рисовать стал по-другому, и появились другие книги: теперь я с увлечением читал Писарева.
Чудно это, конечно, этот переход от Фауста к Писареву, но разве по устремлению так уж несообразно? Вспомните вторую часть… только передо мною был не берег океана с досадной лачужкой Филимона и Бавкиды,12 а весь мир стал мне океаном, я понимаю, и тогда еще, когда я допевал мои последние «догматики», мой голос подымался над этим океаном, а теперь, безголосый, горячими губами я только повторял на литии за голосом, подымавшимся со дна океана: «и о всякой душе… скорбящей и озлобленной, помощи требующей!»13 Сам я никогда не был и не чувствовал себя озлобленным, но моим резким глазам суждено было в те переломные годы заглянуть в «пылающий колодезь».
Товарищ брата, студент Беневоленский, сын священника от Симеона Столпника, давал мне книги по философии: Виндельбанд, Паульсен, Куно Фишер, и Рекламовское издание Ибсена, а из Университетской библиотеки про Китай – мое тогдашнее увлечение, как бабочки и гербариум. А Суворовский, племянник регента Василия Степаныча – это он мне принес Писарева, а за Писаревым «Что делать?» и книгу за книгой от Слепцова до Каронина: из всех «народников» после Слепцова я назову Глеба Успенского, и я не удержался и в классном сочинении помянул автора «Власти земли»14 и получил двойку с припиской: «за курносого зайца».
Я помню московский мороз, с кристаллическим звуком; деревья Найденовского сада и соседнего Хлудовского, белые в сверкающем инее, чащобясь, стояли, как лес.
А вся тесная даль там, где фабричные трубы, сквозь трубы багрово-клубящаяся, и из тяжких дымов кровавый глаз солнца. будет завтра еще крепче мороз.
В этот день приходил Суворовский, он показался мне особенно взволнован, и было похоже, как однажды он пришел сказать о своем брате семинаристе: «зарезался перочинным ножиком», взбудораженно он рассказывал брату какую-то университетскую историю и с возмущением, что «приват-доцент Милюков выслан!»15.
В мою черную кипь его слова были искрой. Все слилось передо мной в одно слово, оно было беспредметно, но глубоко восчувствовано, ведь это была та стихия, без которой, как без воздуха, дышать нечем, а имя ей – «свобода». И для меня тогда стало ясно – мой путь жизни. И я уж не мог понять, как иначе можно жить на свете.
И тот же Суворовский как-то после летних каникул рассказывал о Звенигороде, где жил он в санатории, и в той же санатории жил Милюков. Суворовский жаловался, что за лето так мало сделал и что «волей-неволей обращаешься в чеховского героя».
«А вот Милюков, он и в ванне с книжкой сидит, читает!»
Эту легенду о Милюкове, хотя Суворовский уверял, что собственными глазами видел, я принял всурьез: все эти чеховские герои вызывали во мне досадно-горькое чувство, как пьяницы, а работа подымала рвение: я все хотел знать.
А засветившаяся мне «свобода» в памятный мороз и мой природный наперекор провели меня по тюрьмам16 через всю Россию и вывели в Устьсысольск. Там я жил, как когда-то на чердаке, там начал писать. Но с той поры на мне лежит упрек в «необщественности». Правда, я не ходил ни на какие собрания, но ведь для меня навсегда остались горящие письмена: свобода – свобода и думать по-своему.
Храню документ – память от Василия Васильевича Розанова.
На бланке для поступления в кадетскую партию. «Ознакомившись с программой и уставом Конституционно-Демократической партии (п. Народной Свободы), я прошу включить меня в число ее членов. Фамилия. Имя. Отчество. Адрес. И т. д.» На обороте адрес секретаря Рождественского комитета к.-д. партии А. П. Федорова. В примечании: «Просят обозначить, чем именно желают быть полезным партии: привлечением новых членов, распространением программ и т. д.» – «Дорогому Алексею Михайловичу с просьбой подумать, решиться и подписаться – В. Розанов. См. на обороте. Подпишитесь и пошлите прилагаемое: 1 к. марка».17
И я представил себе Василия Васильевича, как едет он на извозчике в Соляной Городок18 опускать свой избирательный бюллетень за Милюкова: проезжая мимо Эртелева переулка, он приподнялся и, подмигнув, показал язык.
Вечером в воскресенье за чаем у Розановых гости все «общественные», разговор о Государственной Думе. В. В. ругательски ругал, по-своему: «мальчишка и дурак» – и очень важных и почтенных «членов» и до самых высоких. И я подумал, не зря я получил записку на бланке.
– Василий Васильевич, – заметил А. В. Руманов, – что это вы сегодня в «Новом Времени» написали: «встанем у престола…»
– Разве я написал?
Из моих современников-сверстников ближе мне всех Блок. По искренности и правдивости кого еще назвать? И совестливость – должно быть, такое было у Г. И. Успенского. И еще была у Блока та наивность, детскость, которая без всяких ярко отличает живой дар, такое я заметил у Пришвина и у З. Н. Гиппиус, такое было, несмотря на всю деланность и лукавство, у Андрея Белого и даже у сверх-лукавого Розанова, но не было ни у Сологуба, ни у Брюсова. Блок числился, как и я, в «необщественных», но он все делал, чтобы быть похожим на «деятеля». Я видел, как тяжело ему на людях, его все трогало. И в разговорах редко не упоминалось: Россия.
Как-то после лекции Милюкова – политической, я встретился с Блоком.
«Теперь я понимаю, – сказал Блок, – в России может быть парламент. С Милюковым. Вот это настоящий европеец!»
До Парижа я не встречался с Милюковым. Я участвовал в «Речи»19 как гастролер: через Д. А. Левина, приятеля Льва Шестова, меня печатали на Пасху и на Рождество, и дважды в году я бывал в редакции; и на вечерах у А. В. Тырковой (Вильяме) кого-кого я не видел – и Родичева, и Изгоева, и Д. И. Шаховского (изумительное лицо, как с иконы), и П. Б. Струве, но только не Милюкова. Память мою, связанную с его именем, я навсегда сохранил, я читал и его «Очерки по истории русской культуры»,20 и «Государственное хозяйство в России первой четверти XVIII столетия»21. Но только здесь на «каторге» мы встретились. И что же оказывается: самый главный «гонитель и мучитель» моей «чертовщины»22 – называют Милюкова. «Непонятно», как это принято говорить про мое, и что я сам объясняю главным образом складом моей речи, которую русские люди, «окруженные иностранцами», или забыли или никогда и не знали – Милюков такого не скажет: он по всем ладам ходит и во всех русских веках, к слову слух. «Но, – говорят, – ни чертей, ни снов, этого Павел Николаевич не любит!» А кто-то от себя уж прибавил: «И чтобы без всяких рисунков (зайцев и прочих неподобных зверей)». А ведь у меня редкий рассказ без сна, ну, и всякие дриады23 (для античной Вальпургиевой ночи найдется немало и русских имен!).
На одном из моих вечеров я составил программу из «своего» и с Гоголем: «Страшная месть» и «Вий». И обещал быть Милюков. И не пришел.
Было такое мое утро – весна, но без солнца, в пасмурном небе собирался тихий дождик – приятный моим глазам и лягушкам. Я шел с молоком от Хаузера и у Эглиз-д-Отой по нашей улице навстречу мне Павел Николаевич. И это как раз после вечера! Но он не пришел, так объяснил он, а собирался – заседание задержало, и он представляет себе, как бы я ему наклал со своими чертями! И в голосе его, и как смотрел он, было столько добродушия, так не может говорить и так не смотрит, кто гонит.
И я подумал: «не может быть… и стоит только вслушаться, как оно звучит, ведь весь мой волшебный мир – только музыка!»
1 Продовольственный портфель (М. И. Терещенко)
В нашу первую поездку в Париж в 1911 г. этот маленький портфель подарил мне самый богатый человек в России Михаил Иванович Терещенко.
В те годы соединял нас театр, потом книга, основанное им издательство «Сирин». На портфеле золотая монограмма: А. М. R. – тонкая вязь.
Через тридцать лет этот портфель вышел на свет Божий: монограмму я снял – 200 фр. на вес, а в безличный, мои продовольственные карточки, как раз по размеру.
Во всех бесконечных очередях я с ним не расставался. За годы 1940–1944 сколько часов, не счесть. Стоял он со мной и в жару и в мороз и под дождем. Какими руками я за него брался. Сколько надежд и огорчений и страха: потеряю.