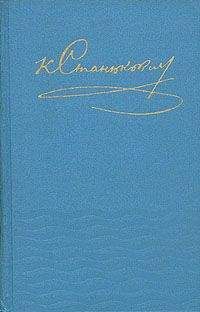Ему было жаль Маргариту Васильевну. Кто ее знает? Может быть, и в самом деле она приведет в исполнение свое желание оттого, что скучно жить. А ей скучно жить главным образом потому, что она никого не любит и жаждет любви.
Надо поговорить с ней, успокоить ее, убедить куда-нибудь уехать на время.
— Сегодня вы будете дома, Маргарита Васильевна?
— Целый день.
— Можно зайти к вам? Не помешаю?
— Заходите… Я всегда рада вас видеть.
— И уж больше не сердитесь на Фому неверного?
— Нет… Тем более что он…
— Был прав в своих сомнениях? — подсказал Невзгодин.
— Не совсем, но до известной степени! — грустно промолвила Маргарита Васильевна. — Ведь это так просто и так ужасно! — прибавила она, указывая взглядом на гроб, и вся содрогнулась.
«Бедняга! Боится, что и муж застрелится! Какая же он скотина, если пугает „этим“!» — подумал Невзгодин.
В столовую вошел старенький священник из ближнего прихода. Он тотчас же принял соответствующий предстоящей требе серьезно-задумчивый вид, поклонился и торопливо начал облачаться в траурную ризу при помощи дьячка. Вслед за ним вошли певчие, и в комнате запахло водкой. Некоторые из певчих были пьяны по случаю праздника и едва стояли на ногах.
Старенький священник подозрительно покосился на певчих и что-то шепнул дьячку.
— Не в первый раз, батюшка! — успокоительно проговорил дьячок.
В эту минуту в зале мгновенно наступила мертвая тишина. Все сразу смолкли, не окончив речей и повернув головы к раскрытым из залы в прихожую дверям.
Почти на всех лицах застыло выражение необычайного изумления и негодования. Даже по лицу добряка Андрея Михайловича Косицкого пробежала гримаса, точно от какой-то физической боли, и старик густо покраснел, точно сделал что-нибудь нехорошее, и ему стало стыдно.
Невзгодин переступил порог, взглянул и не верил своим глазам.
Высоко подняв свою седую, коротко остриженную голову и ни на кого не смотря своими серыми, пронизывающими глазами, светившимися из-под очков резким, холодным, словно сталь, блеском, сквозь толпу пробирался вперед, к гробу, Найденов с обычным своим спокойным и надменным видом.
Словно бы не замечая или не желая замечать того потрясающего впечатления, какое произвело его прибытие, он прошел вперед и остановился около кучки профессоров, ничем не выказывая своего волнения и еще выше поднимая голову. Только движение скул, замеченное Невзгодиным, могло обличить, что старый профессор отлично понимает, в какое убийственно-неприятное положение он поставил себя, явившись на панихиду.
И Невзгодин, как художник, любовался дьявольским самообладанием и дерзкою наглостью Найденова, ожидая, что будет дальше и как его встретят профессора.
Цветницкий, стоявший ближе к Найденову, первый поклонился, и Найденов, небрежно протянув ему руку, повел взглядом на остальных коллег. Еще два стыдливых нерешительных поклона, и ответный общий кивок Найденова.
Заречный отвел глаза в сторону, будто не замечая бывшего своего профессора. Косицкий встретил взгляд и поклон Найденова, не ответил на него и только снова покраснел. Не поклонились Найденову еще двое.
Это оскорбление нанесено было у всех на глазах. С известным ученым, тайным советником не хотели кланяться!..
Как только Найденов вошел в залу, он сразу же понял, что Перелесов хорошо отомстил своему врагу. Эти изумленные, негодующие взгляды, эти презрительные улыбки почти в упор ясно говорили, что он возбуждает ненависть и что его все считают виновником самоубийства этого «болвана». Но возвращаться было уже поздно, и наконец не ему занимать наглости.
И Найденов нарочно прошел вперед, к коллегам, уверенный, что никто из них не посмеет оскорбить его.
Он знал их хорошо. Но, значит, Заречный показал всем письмо, и его, влиятельного профессора, считали настолько скомпрометированным этим самоубийством, что уже решились обнаруживать свои цивические чувства в оскорблении. Прежде ненавидели, но не смели. Теперь смеют.
«Начинается расплата!» — снова пришла в голову Найденова мысль, не дававшая ему покоя после разговора с дочерью.
И, внутренне почти равнодушный к нескрываемой ненависти всех этих людей и к нанесенному коллегам оскорблению («Они поплатятся за это!» — подумал старый профессор), он с ужасом и тоскою подумал, что дети могут узнать про все, что только что произошло.
Побледневший, с презрительно скошенными тонкими безусыми губами, он все-таки не терял самообладания. Неподвижная, словно статуя, его высокая, сухощавая, выпрямившаяся фигура стояла перед гробом, и глаза его, горевшие злым огоньком, как у затравленного волка, вызывающе смотрели сверху прямо в лицо покойника.
Священник хотел было начинать службу, но в это время из толпы вышел бледный как полотно Сбруев. Он подошел к батюшке и просил немного повременить.
Все, ожидая чего-то необычайного, замерли. Найденов плотнее сжал совсем побелевшие губы, и глаза его, казалось, пронизывали покойника.
Но в них блеснуло на мгновение что-то жалкое и беспомощное, когда Сбруев от священника подошел к нему и, не здороваясь и не поклонившись, взволнованно проговорил:
— Господин Найденов. Я вынужден сказать, что вам не место здесь, у гроба покойника, который…
От волнения Сбруев больше ничего не мог сказать.
Найденов не проронил ни слова. Медленно, словно бы нарочно замедляя шаги, направился он через толпу, наполнявшую комнату, к дверям.
Перед ним брезгливо расступались, точно перед зачумленным, его провожали злорадными взглядами, вслед ему посыпались проклятия, а он будто не видал и не слыхал ничего и шел, не склоняя под бременем позора своей седой, высоко поднятой головы, по-прежнему высокомерный, словно бы презирающий всех, и великолепный в своем бесстыдстве.
— Этакая наглость! — раздавались голоса.
Но, когда старый профессор вышел из квартиры и очутился на улице, самообладание его оставило.
Он едва стоял на ногах и трясущимися губами беззвучно шептал какие-то угрозы и пугливо и растерянно озирался, словно боясь людей или не зная, куда ему идти. Наконец упавшим, точно чужим голосом он позвал извозчика.
Когда он сел в сани, то как-то весь съежился, опустил голову и казался жалким и беспомощным, совсем не похожим на прежнего надменного старика.
Он приехал домой и, когда слуга отворил ему двери, спросил:
— Барышня дома?
— Нет-с… Оне ушли с Михайлом Аристархычем тотчас после вас.
Казалось, что известие успокоило несколько старика.
Нетвердыми шагами дрожащих ног прошел он в кабинет и опустился в кресло.
Через несколько минут пришла его жена, бледнолицая пожилая женщина с кроткими глазами, и, увидав мужа, испуганно спросила:
— Аристарх Яковлевич… Что с тобой? Ты болен…
— Ничего… Так… слабость… А где дети?
— Ты разве их не видал?
— Где?
— На панихиде. Они пошли туда…
— Они были там? — спросил Найденов глухим голосом.
— Да. Лиза непременно хотела идти на панихиду… Да отчего это тебя так удивляет?
Старый профессор поднял на жену взгляд, полный ужаса и тоски, и из груди его вырвался стон.
XXIX
Вскоре после панихиды Невзгодин сидел в кабинете Маргариты Васильевны.
Она говорила:
— Вы понимаете чужие настроения, Василий Васильич, но все-таки вы не знаете женской души. Вот вы давеча советовали лечиться…
— Советовал и теперь настаиваю. Вы изнервничались в последнее время… Прежде вы были куда энергичнее…
— Прежде?.. Прежде я надеялась, я ждала чего-то… А теперь?.. Разве вылечишь больную, неудовлетворенную душу бромом и обтираниями холодной водой? По совести вам говорю, как доброму приятелю: скучно жить.
Проговорив эти слова, Маргарита Васильевна взглянула грустным, усталым взглядом на Невзгодина.
— Это настроение пройдет…
— Когда?.. Когда пройдут годы и я сделаюсь старухой.
И, помолчавши, прибавила с тоской:
— А жить так хочется! Ведь я не жила совсем, вы правду как-то говорили… Я никогда и никого не любила… Я не знала, что значит забыть себя для другого, жить с ним неразрывно и душою и телом и с радостью отдать за любимого человека жизнь… А именно такого счастия я и искала, о такой любви и мечтала, а между тем… этого не было и никогда не будет!
— Отчего не будет? Разве вы не можете полюбить?
— Быть может, могу, но не посмею… Страшно строить свое счастье на несчастье другого…
— Во-первых, не всегда несчастье другого так сильно, а во-вторых, когда любят, то все смеют…
— А вы, Василий Васильевич, когда-нибудь так любили?
— Разве вы не знаете?
— Как я могу знать?
— Да ведь я вас так любил, Маргарита Васильевна!
— Разве? — удивленно и в то же время обрадованно воскликнула Маргарита Васильевна.