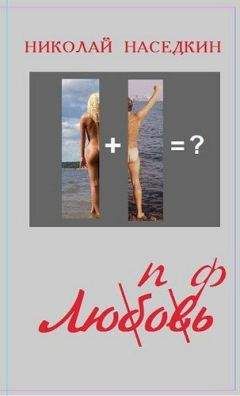Итак, как видим, характеристики трезвых проницательных прагматиков Верховенского-младшего и Кириллова, безусловно, более точные, беспощадные и провидческие для самоубийственной судьбы Ставрогина, чем характеристики-сравнения с романтическими шекспировскими героями Верховенского-старшего и матери.
Между тем, ещё раз подчеркнём, сам Николай Всеволодович своим поведением, подробно прокомментированным Хроникёром, в дальнейшей скандальной сцене наиболее ярко сам себя и характеризует-выставляет. Он только что публично отрёкся от своей законной тайной жены Марьи Лебядкиной, и только что из как бы простодушной болтовни Петруши присутствующим (а это почти все основные герои романа) стало известно, что Дарья Павловна, сестра Шатова, беременна (однако ж, что от Ставрогина - известно не всем), а Степану Трофимовичу предназначено-поручено Варварой Петровной "покрыть этот грех"...
И вот Шатов, до того молча сидевший в углу, встаёт, приближается-подходит к Николаю Всеволодовичу и бьёт его по лицу. Стоит напомнить, что не только сестра Шатова носит под сердцем ребёнка от Ставрогина, но и шатовская жена - Marie. Хроникёр комментирует:
"Напомню опять читателю, что Николай Всеволодович принадлежал к тем натурам, которые страха не ведают. На дуэли он мог стоять под выстрелом противника хладнокровно, сам целить и убивать до зверства спокойно. Если бы кто ударил его по щеке, то, как мне кажется, он бы и на дуэль не вызвал, а тут же, тотчас же, убил бы обидчика; он именно был из таких, и убил бы с полным сознанием, а вовсе не вне себя. Мне кажется даже, что он никогда и не знал тех ослепляющих порывов гнева, при которых уже нельзя рассуждать. При бесконечной злобе, овладевавшей им иногда, он всё-таки всегда мог сохранять полную власть над собой, а стало быть и понимать, что за убийство не на дуэли его непременно сошлют в каторгу; тем не менее он всё-таки убил бы обидчика и без малейшего колебания.
(...) Он бы и на дуэли застрелил противника и на медведя сходил бы, если бы только надо было, и от разбойника отбился бы в лесу - так же успешно и так же бесстрашно, как и Л-н208, но зато уж безо всякого ощущения наслаждения, а единственно по неприятной необходимости, вяло, лениво, даже со скукой. В злобе, разумеется, выходил прогресс против Л-на, даже против Лермонтова. Злобы в Николае Всеволодовиче было может быть больше чем в тех обоих вместе, но злоба эта была холодная, спокойная и, если можно так выразиться, - разумная, стало быть, самая отвратительная и самая страшная, какая может быть. Ещё раз повторяю: я и тогда считал его и теперь считаю (когда уже всё кончено) именно таким человеком, который, если бы получил удар в лицо или подобную равносильную обиду, то немедленно убил бы своего противника, тотчас же, тут же на месте и без вызова на дуэль.
И однако же в настоящем случае произошло нечто иное и чудное.
Едва только он выпрямился после того, как так позорно качнулся на бок, чуть не на целую половину роста, от полученной пощёчины; и не затих ещё, казалось, в комнате подлый, как бы мокрый какой-то звук от удара кулака по лицу, как тотчас же он схватил Шатова обеими руками за плечи; но тотчас же, в тот же почти миг, отдёрнул свои обе руки назад и скрестил их у себя за спиной. Он молчал, смотрел на Шатова и бледнел как рубашка. Но странно, взор его как бы погасал. Через десять секунд глаза его смотрели холодно и - я убежден, что не лгу - спокойно. Только бледен он был ужасно. Разумеется, я не знаю, что было внутри человека, я видел снаружи. Мне кажется, если бы был такой человек, который схватил бы, например, раскаленную докрасна железную полосу и зажал в руке, с целию измерить свою твердость, и затем, в продолжение десяти секунд, побеждал бы нестерпимую боль и кончил тем, что её победил, то человек этот, кажется мне, вынес бы нечто похожее на то, что испытал теперь, в эти десять секунд, Николай Всеволодович.
Первый из них опустил глаза Шатов и видимо потому, что принужден был опустить. Затем медленно повернулся и пошёл из комнаты (...)
Затем, прежде всех криков, раздался один страшный крик. Я видел, как Лизавета Николаевна схватила было свою мамa за плечо, а Маврикия Николаевича за руку и раза два-три рванула их за собой, увлекая из комнаты, но вдруг вскрикнула и со всего росту упала на пол в обмороке. До сих пор я как будто ещё слышу, как стукнулась она о ковер затылком..." (-7, 196)
Теперь возвращаемся к сцене у юродивого. Лиза и Ставрогин сталкиваются на выходе в дверях. Они "как-то странно друг на друга поглядели", и вдруг Лиза быстро подняла руку, взмахнула ею, и если бы Николай Всеволодович "не успел отстраниться", она бы ударила его по щеке... Правда, Хроникёр сам этого не видел, передаёт с чужих слов, заявляет, дескать, он "этому тогда не поверил", однако ж фиксирует-отмечает, что "Николай Всеволодович во всю обратную дорогу был несколько бледен". (-7, 316)
Хроникёр здесь несколько лукавит, ибо, разумеется, поверил он всему и именно для этого затеял длинный рассказ о самоубийце в гостинице и посещении прорицателя Семёна Яковлевича. К слову, и здесь, в келье-комнате юродивого, когда все наперебой стремились узнать свою судьбу от хозяина, о Ставрогине опять не упоминается ни полслова. А ведь вздумай он обратиться к Семёну Яковлевичу, тот, пожалуй, мог бы что-нибудь и про густо намыленную петлю пропророчествовать...
Итак, цепочка эпизодов-событий с участием Ставрогина разворачивается в следующей последовательности: пощёчина-удар Шатова - беседа-диспут с Кирилловым о самоубийстве и бессмертии - разговор с Шатовым, в котором уточняется главный мотив-подоплёка шатовской пощёчины ("- Я за ваше падение... за ложь. (...) Я за то, что вы так много значили в моей жизни..."(-7, 229)), и формулируется-подтверждается атеизм Ставрогина дуэль с Гагановым и новый диалог с Кирилловым о необходимости Ставрогину нести бремя (грубо говоря, - терпеть пощёчины) - встреча с Дарьей Шатовой и попытка полного разрыва отношений и признание как бы о найме Федьке Каторжного для убийства жены и её брата - лицезрение мальчика-самоубийцы в гостинице - неполучившаяся пощёчина Лизы... Причём, ещё следует добавить-уточнить, что Шатов считает-признаёт себя и Кириллова учениками Ставрогина и, как и Кириллов, призывает бывшего учителя-наставника понести бремя и даже покаяться за своё падение, за свой отказ от поисков-обретения Бога, за утвердившийся в душе атеизм, утерю связи с "почвой", русским народом, православием: "- Целуйте землю, облейте слезами, просите прощения!.."(-7, 243) Как видим, способ предлагаемого покаяния очень похож на тот, какой советовала-предлагала Раскольникову Соня. Раскольников целовал землю и просил принародно прощения за убийство другого человека; Ставрогину предлагалось сделать то же самое за самоубийство, за убийство в себе верующего, русского, православного христианина.
Но вспомним ещё, что Ставрогин своим "ученикам" практически в одно и то же время и один и тот же "предмет" преподавал совершенно по-разному, с противоположных и взаимоисключающих позиций. С Шатовым он беседовал о русском народе-"богоносце" и о том, что если истина вне Христа, то лучше оставаться со Христом, нежели с истиной; а Кириллову внушал "подлые" мысли типа - "чтобы сделать соус из зайца, надо зайца, чтобы уверовать в Бога, надо Бога..." (-7, 237)
Так вот, возвращаясь к цепочке событий: вспышка ненависти Лизы, её намерение повторить Шатова и наказать Ставрогина прилюдно пощёчиной-бременем - и стала, скорее всего, той злополучной каплей, которая окончательно переполнила чашу тоскливого и безысходного терпения этого демонического героя. Последняя надежда теплилась в "преждевременно уставшей" душе Николая Всеволодовича - обрести покой, равновесие и, может быть, какое-то подобие счастья во взаимной любви с Лизой... И ужасный трагический финал их взаимоотношений (увоз-кража Лизы Ставрогиным почти из-под венца, безумная ночь в Скворешниках, насильственная смерть-убийство Лизы), и свой позорный конец уже в тот момент, в сенцах Семёна Яковлевича, увиделись-провиделись Николаю Всеволодовичу в её сверкнувшем любовью и ненавистью взгляде.
Да, именно Лиза - последнее, что связывало его с жизнью, действительностью, почвой.
3
Теперь -- о Кириллове.
А вот Кириллова с жизнью ещё связывала (вернее -- отодвигала на несколько дней его запланированное соперничество с Богом) вполне ничтожная причина: добровольное обязательство перед мелкими бесами -- взять на себя их идиотское преступление. Казалось бы, задержка совершенно бессмысленная и алогичная. А. Камю, давший в главе "Кириллов" трактата "Миф о Сизифе" развёрнутый анализ образа этого героя и его идеи о логическом суициде, пишет-утверждает: "Из безразличия он соглашается с тем, чтобы его самоубийство было использовано во благо презираемому им делу..."209 И это утверждение отдаёт некоторой категоричностью. Для Камю, как и для многих других исследователей, герой Достоевского -- это всего лишь литературный персонаж, носитель определённой идеи и в известной мере alter ego автора, доверившего ему часть своих заветных мыслей, рассуждений и выводов. Всё так, но не стоит и забывать, что к литературным героям, а особенно к героям, созданным Достоевским, Толстым, Пушкиным и другими безусловными гениями -- полнокровным, убедительным, достоверным, реальным, живым, -следует относиться в какой-то мере именно как к живым людям и подходить с соответствующими мерками.