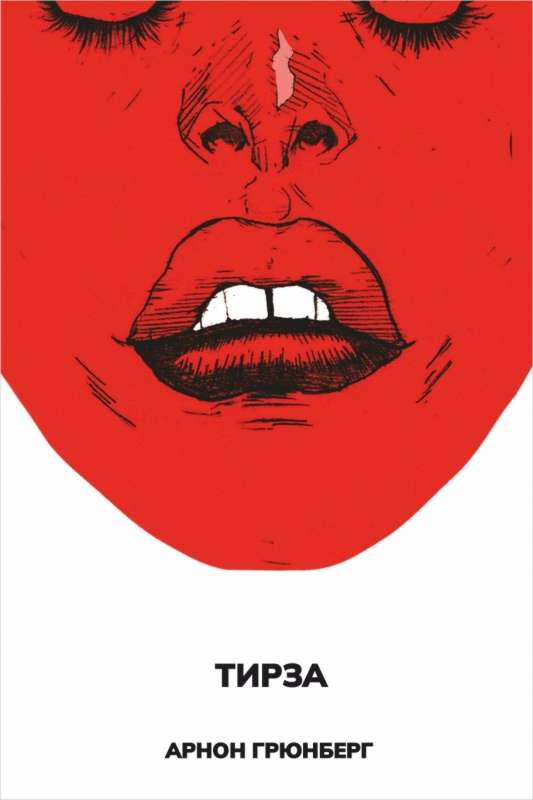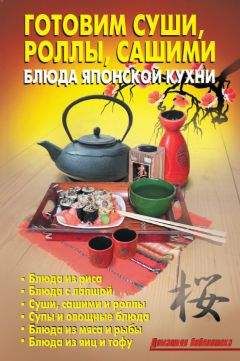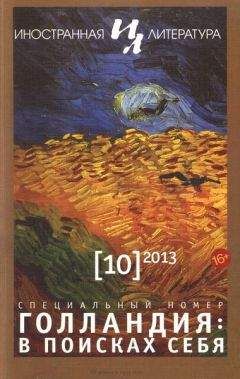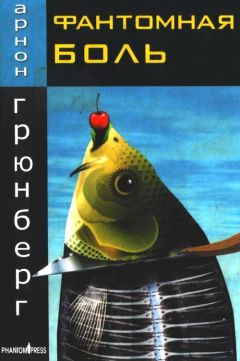он жил в пансионе в Южной Германии, пока она выздоравливала в клинике. Он подумал о ее виолончели. О пюпитре с нотами. О концертах в музыкальной школе. Он всегда садился в первый ряд. И смотрел на свою дочь так, будто хотел ее загипнотизировать, как будто думал, что она не возьмет ни одной фальшивой ноты, пока он не сводит с нее глаз.
— Сыграй мне, — попросил он.
— Что?
— На виолончели. Поиграй мне.
— Прямо сейчас?
— Сейчас.
Она засмеялась:
— Пап, ты ненормальный. — Как будто он пошутил за столом, когда к ним на ужин пришли ее подружки. Не слишком удачно пошутил.
Хофмейстер шутил всегда, если у них ужинали подружки или друзья Тирзы. Он считал, что отец обязан нарочито оживлять обстановку.
— Мне это очень важно.
Она должна была сыграть для него, как раньше, на виолончели. Это единственное, что сейчас пришло ему в голову, единственное, что еще могло его спасти. Его младшая дочь и ее виолончель.
— Да я уже несколько лет не играла.
— Какая разница. Ты же не разучилась. Нельзя разучиться.
— Но все спят. Мама только что поднялась наверх.
— Они не проснутся. Они уже привыкли за столько лет.
— Папа, — сказала она, все еще прислонившись виском к плиткам, — ты ненормальный. Это ведь правда. То, что говорила мне тогда, давно, Иби, — правда. Ты не в себе.
У него в голове пронеслись тысячи мыслей, и он спросил себя, каково это — когда твой отец сумасшедший, но, не найдя ответа на этот вопрос, он сказал ей:
— Я совершенно здоров, Тирза. Так же здоров, как и ты. Я просто попросил тебя поиграть мне. Наверное, это сентиментальная дурацкая просьба, и странно просить кого-то играть на музыкальном инструменте среди ночи. Но я не ненормальный.
Она посмотрела на него и сжала губы. Он не понял, можно ли было принять это за улыбку.
— Папа, — шепотом сказала она и посмотрела на него с нежностью и пониманием. — Я с удовольствием тебе поиграю, но только не сейчас.
— Нет, сейчас, Тирза. Немедленно. Сегодня вечером. То есть сегодня ночью.
Она промолчала.
Он сам не понимал, почему это вдруг стало для него настолько важным, делом первостепенной важности, сейчас, когда никаких других первостепенных дел уже не осталось. Что могло быть еще важнее в его жизни?
Он достал из кармана кошелек.
— Я тебе заплачу, — сказал он. — Дам тебе еще денег на Намибию.
Он достал все купюры, что у него оставались.
— Вот, — сказал он, — тут почти пятьсот евро. Тебе пригодятся в Африке.
— Папа.
Она погладила его по щеке тыльной стороной ладони:
— Папа, с чего тебе вдруг так сильно захотелось, чтобы я сыграла?
Он так и стоял, зажав в руке деньги. Больше у него не было. Может, у него никогда и не было ничего больше. Бумажные деньги, чтобы скрыть, что ему нечего больше предложить. Он платил. Платить означало свободу. Платить означало достоинство.
— Потому что тогда я буду счастлив, — сказал он. — Я буду очень счастлив.
Он хотел отдать ей деньги, но она отвела его руку.
Он охотно платил за счастье. В счастье пряталось невыносимое чувство вины. Ошибка. То, за что надо было платить.
Ему уже не было холодно, теперь его бросило в жар. Он почувствовал, что по спине бежит пот. Как будто у него поднялась температура, как будто он простудился.
Тирза посмотрела на него, но уже не как дочь на отца и даже не как заботливая дочь смотрит на человека, который так долго заботился о ней самой, она смотрела на него по-другому. В ее взгляде он заметил кого-то чужого. Квартиранта, который смотрит на хозяина дома и обдумывает предложение.
Она развернулась и пошла в дом. Он услышал, что она побежала наверх по лестнице. «Как будто олененок», — подумал Хофмейстер.
На кухне он налил себе стакан гевюрцтраминера. Его осталось совсем немного. К тому же вино было теплым. Но ему было все равно. Его все еще била дрожь. От усталости, от переживаний, от стыда.
Тут он услышал, что Тирза спускается. Он выглянул посмотреть. Она тащила за собой виолончель. Как упрямое животное, теленка, который сопротивляется, когда его тащат на бойню. Она прошла мимо отца, не взглянув на него, и поставила виолончель в гостиной.
Он наблюдал за ней, стоя в дверном проеме с пустым стаканом в руке.
Она снова побежала наверх и вернулась с пюпитром и нотами. Поставила все у окна, взяла виолончель и смычок.
— Ты уверен, что тебе этого хочется? — спросила она.
Он кивнул.
— И это сделает тебя счастливым?
Он снова кивнул.
— Тогда садись, — велела она и взмахнула смычком.
— Элгар, — шепотом попросил он. — У тебя он так хорошо получался, ты играла его в музыкальной школе. Элгар, да. Это ведь был Элгар?
Она уже не помнила. Он сел прямо на пол. Посреди остатков бурного праздника, на липкий рис и куски маринованного огурца, которые выпали у кого-то изо рта.
Стоять он больше не мог. Он почти ничего больше уже не мог. Деньги он положил на кофейный столик.
Она настраивала виолончель.
— Пап? — позвала она. — А твое помешательство. Это наследственное?
— Наследственное?
— Ну, со мной это тоже случится? Мне стоит переживать, что я стану такой же, как ты? Что я сойду с ума.
И она начала играть.
Он видел ее плечи и руки, и ему была видна одна бретелька бюстгальтера.
Он посмотрел на нее и вспомнил все. Он был дрожащим телом, которое слушало музыку, смотрело на свою дочь и вспоминало все, что с ним было. И пока Хофмейстер слушал музыку и смотрел на свою младшую дочь, которая играла для него, для него одного и ни для кого другого, он впервые задался вопросом, почему жизнь приносит столько боли?
Почему она всегда приносила ему так много боли?
Ведь не каждая жизнь была такой. На свете были люди, которым жизнь совершенно не досаждала. На свете было очень много таких людей. Но именно его жизнь была сплошной болью. Он размышлял обо всем, может, не всегда достаточно глубоко и предметно, но никогда не думал о боли. Он всегда считал, что боль — это для слабаков. И сейчас, когда он впервые задумался о ней, то почувствовал легкое неприятие. Отвращение.
У него было все, а теперь ничего не осталось. Но и когда у него все было, он чувствовал боль.
О своем существовании он мог вспомнить только неловкую тишину, неуклюжую моторику, нервный тик, с трудом подавляемое желание. Вечную потребность при любых обстоятельствах сохранять лицо.