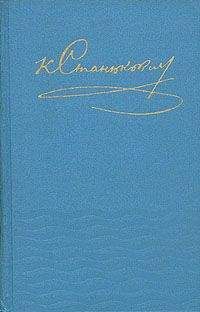На похоронах Перелесова было всего пять профессоров и в том числе: Заречный, Сбруев и старик Андрей Михайлович Косицкий, явившийся несмотря на предостережения своей неугомонной воительницы-супруги, окончательно, по ее словам, убедившейся в том, что муж спятил с ума и ведет себя, как студент первого курса.
— Недостает, чтоб ты еще влюбился! — не без ехидства прибавила она, измеряя маленькую худощавую фигурку профессора уничтожающим взглядом.
Остальные жрецы науки блистали своим отсутствием.
Похороны прошли без какого бы то ни было «прискорбного инцидента» и при очень незначительном количестве публики. Никаких речей не говорилось на кладбище. При виде обезумевшей от горя матери теперь как-то не поднимался язык говорить о вине покойного и об ее искуплении. Могилу засыпали, и все расходились молчаливо-угрюмые.
— А мы в «Прагу», не правда ли, Василий Васильич? — спрашивал Сбруев, нагоняя Невзгодина, который в раздумье шел между могил.
— С удовольствием.
Звенигородцев между тем собирал желающих ехать завтракать в «Эрмитаж» или к Тестову. Но так как профессора уклонились от предложения, Звенигородцев должен был отказаться от мысли устроить завтрак с речами по поводу самоубийства Перелесова.
Несколько времени Сбруев шел молча рядом с Невзгодиным. Вдруг, словно бы спохватившись, он проговорил:
— А я и позабыл познакомить вас со своими. Они здесь. Хотите?
— Очень буду рад.
— Так подождем минутку.
Они отошли в сторону и остановились.
— А вот и они! — промолвил Сбруев.
Невзгодин заметил, как просветлело лицо молодого профессора, когда он увидал двух скромно одетых дам.
Он подвел к ним Невзгодина и, назвав его, сказал:
— Моя мать и сестра Соня.
И та и другая очень понравились Невзгодину, в особенности молодая девушка.
Что-то сразу располагающее было в выражении ее свежего, миловидного лица и особенно во взгляде больших темных глаз, вдумчивых и необыкновенно ясных. Такие глаза, казалось, не способны были лгать и глядели на мир божий с доверчивостью чистого существа. Все в этой девушке словно бы говорило об изяществе натуры и о нравственной чистоте.
И Невзгодин невольно подумал: «Что за милая девушка!»
Они пошли все вместе к выходу с кладбища.
Прощаясь, Сбруева просила Невзгодина навестить их.
— Вечера мы почти всегда дома! — прибавила она.
Сбруев усадил своих дам на извозчика и сказал матери, чтоб его не ждали.
— Мы едем с Василием Васильевичем завтракать, мама! — прибавил он, застенчиво улыбаясь.
Мать взглянула на Невзгодина ласковым, почти умоляющим взглядом, словно бы просила его поберечь сына.
И Невзгодин поспешил проговорить:
— Мы недолго будем завтракать. Мне надо сегодня ехать по делу.
Через полчаса Сбруев и Невзгодин сидели за отдельным столом в гостинице «Прага».
Дмитрий Иванович, молча и только улыбаясь своей милой застенчивой улыбкой, пил водку рюмку за рюмкой, сперва вместе с Невзгодиным, а потом, когда тот отказался, — один.
— Люблю, знаете ли, иногда привести себя в возвышенное настроение, Василий Васильич! — говорил он, словно бы оправдываясь, когда наливал новую рюмку. — Однако возвращаюсь домой без чужой помощи и так, чтобы дома не видели моего возвышенного настроения! — прибавил он, добродушно усмехнувшись.
За завтраком Сбруев говорил мало, но когда завтрак был окончен, две бутылки дешевого крымского вина были выпиты и Дмитрий Иванович находился в возбужденном настроении подвыпившего человека, он заговорил порывисто и страстно, возвышая голос, так как орган играл какую-то бравурную пьесу.
— Вот теперь я чувствую себя в некотором роде свободным гражданином вселенной и могу, Василий Васильич, разговоры разговаривать по душе. А трезвый — я застенчив и, знаете ли, привык помалчивать, чтобы, значит, невозбранно получать свои двести пятьдесят рублей. Ведь это большое свинство, Василий Васильич, — молчать, когда хочется и обязан крикнуть во всю мочь: «Так жить нельзя!..» Но я не один, Василий Васильевич… Конечно, это не оправдание, но все-таки… я не один… Понравились вам моя старушка и сестра?
— Очень.
— То-то… Это, я вам скажу, золотые сердца… Мать-то что перенесла, чтобы меня поднять на ноги… Ох, как бедовала ради меня… И все наши славные… Кроме Сони, у меня еще две сестренки в гимназии… Зайдете, — увидите, Василий Васильич… Ну и пилатствуешь помаленьку… Свинство свое сознаешь, но… не на улицу же пустить своих… Вот вчера я спрашивал вас: отчего мы, интеллигентные люди, такие тряпки?.. Тут ведь не одна семья, не одна семья, не одна экономика, как хотят нас уверить, тут кое-что и другое… тут история, я полагаю, замешана, а не одно только экономическое воздействие… Иначе уж очень было бы мало отведено мысли и духу… Экономика — экономикой, а когда я вижу, что беззащитного человека бьют, хотя, быть может, и совершенно правильно, на основании науки, то ведь хочется его защитить?.. И где больше таких альтруистов, там и жить лучше, там и эта самая экономика видоизменяется… Ну, а мы даже собственной тени боимся, а не то что защищать других… Вот хоть бы я, господин профессор зоологии Сбруев… В возвышенном настроении хорохорюсь, а в трезвом виде жалкий трус… О, если б вы знали, какой трус!..
Дмитрий Иванович отхлебнул из чашки и продолжал:
— Вчера, после того как я Найденова удалил, — очень уж возмутительна была его смелость явиться на панихиду! — я сам испугался своего геройства… Понимаете ли, в чем даже геройство видишь… Нечего сказать, хороши мы герои… Очень даже большие герои! — с грустной усмешкой протянул Сбруев.
— Но все-таки… другие не решились этого сделать, Дмитрий Иваныч. Цветницкий даже протянул первый Найденову руку…
— Мало ли что другие делают… Другие вон сегодня на похороны не пришли… Другие, наверно, заявлять сочувствие Найденову поедут… Читали сегодня статейку в «Старейших известиях»?..
— Читал…
— Это тоже другие… Но ведь я, слава богу, еще не настолько оскотинился, чтоб быть из этих других… Я не стану извиняться, но в глубине души вчера трусил…
— Отчего?
— Отчего?.. Да оттого, что я русский человек — вот отчего. Поступил в кои веки как следует и сейчас же боюсь, как бы не лишиться мне двухсот пятидесяти рублей… И вижу я самый этот испуг и в глазах матери, хотя она, конечно, голубушка, хочет меня уверить, что ничего не боится и гордится сыном, который… который не побоялся ошельмовать Найденова… Гордиться-то гордится, а у самой сердце екает при мысли, что я могу лишиться места. Где новое-то найдешь?.. А как бы я хотел уйти, если бы вы знали. Не могу я вечно двоиться… Тошно… И знаете ли что?
— Что?..
— Я, как истинный российский трус и в то же время не потерявший еще стыда человек, был бы рад, если б меня выгнали… Сам уйти боюсь, а если бы попросили — был бы доволен и пошел бы куда-нибудь на частную службу или уроки бы стал давать… Понимаете ли, что за отсутствие характера… что за подлая трусость! — воскликнул Сбруев, начиная заплетать немного языком.
— И нет даже силенки уйти… Нет!.. Я ведь, Василий Васильич, не успокаиваю себя призрачной надеждой, что два-три порядочных человека среди двадцати или тридцати бесстыжих или позорно-равнодушных имеют силу что-нибудь изменить, чему-нибудь помочь, что-нибудь сделать. Это ведь самообман наивного дурака, а чаще всего ложь… компромисс ради жалованья, прикрытый фразами, чтобы не было зазорно очень. Не одни жрецы науки так рассуждают нынче… Так живет громадная часть интеллигенции… Громадная!.. На днях еще один господин, который, бывши гласным, поносил управу, пошел служить в эту самую управу… Ну и молчи, или говори прямо: пошел на свинство ради жалованья. Так ведь нет: совсем из другой оперы поет…
— Насчет того, что один добродетельный спасет сотню нечестивых?
— Именно. Я, говорит, хоть и в меньшинстве, а все-таки защищаю свои мнения… А какого черта его мнения, когда их не слушают! Ведь это выходит: покрывать своим именем всяческие гадости и полегоньку да помаленьку и самому их делать… Ведь если меня посадят рядом с выгребной ямой, то я невольно буду благоухать не особенно приятно… Не так ли?.. Все это — азбука, а теперь и она многим кажется каким-то донкихотством… Даже и в литературе… Казалось бы: святая святых… А если у меня двоюродный братец… литератор в современном вкусе… То есть такая, я вам скажу, свинья…
— В каком именно смысле?
— А во всех… Ему все равно, где бы ни писать, и не только в органах, которые ему не симпатичны по направлению, а даже, прямо-таки сказать, в предосудительных… И это называется литератор… Служитель свободной мысли…
— Он так же рассуждает, как и ваш управец, Дмитрий Иваныч… Я, мол, лично дурного ничего не пишу, мне платят, а что другие пишут, мне наплевать… Это нынче повальная болезнь…