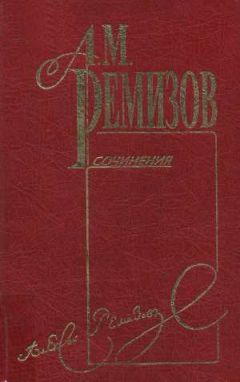Последние годы 1931-49, когда у меня не осталось никакой надежды увидеть мои подготовленные к печати книги, а в русских периодических изданиях оказалось, что для меня «нет места» и я попал в круг писателей, «приговоренных к высшей мере наказания» или, просто говоря, обреченных на смерть, я решил использовать свою каллиграфию: я стал делать рукописные иллюстрированные альбомы – в единственном экземпляре. И за восемнадцать лет работы: четыреста тридцать альбомов и в них около трех тысяч рисунков. Перечень 157 номеров напечатан7 в ревельской Нови, кн. 8. Сто восемьдесят пять альбомов «так или иначе» разошлись.
Из всех рисунков писателей я больше всего люблю рисунки Пушкина. Как бы мне хотелось посмотреть на его движущиеся чудища из сна Татьяны! А полюбились мне рисунки Пушкина за их непосредственность. Ведь только непосредственность – ненамеренность – передает мгновения в беспрерывном, взблеск жизни в ограниченном окостенелом событии.
И у меня, как у каждого писателя, было когда-то такое в рисунках, но по мере того как начал я выпускать мои альбомы, стал вырисовывать и обрамлять рисунки, мое «само-собой» – мое «изстрочное» – пропало. И это безвозвратно: глаз осурьезился, рука навострилась. И я невольно попал в круг Лермонтова и Бодлэра, писателей-рисовальщиков, но не имея их душуивремяпронизывающего имени, не могу претендовать ни на определение историка, ни на любопытство исследователя.
В войну я делал в больших размерах абстрактные цветные конструкции8 – три стены в «кукушкиной», на улице Буало в Париже, десяток у Лифаря в подвале и простенок у Кодрянских в Нью-Йорке.
XII. Сны в русской литературе
«Мы видим сны: но как они милее действительности? Мы грезим и грезы милее жизни! Но ведь без грез, без снов, без “поэзии” и “кошмаров” вообще, что был бы человек и его жизнь? – Корова, пасущаяся на траве. Не спорю, – хорошо и невинно, но очень скучно».
В. В. Розанов. Темный лик. СПб. 19111
«Поло́дни» говорят, когда весной с оттаявшей земли подымается густой теплый пар – земля дышит. А «полодни ночи»2 сны, дыхание ночи.
1.
Как помню себя, всегда мне снились сны. И не постучи в мое окно или звонок, я перестал бы различать что сутолочная явь, что жаркие видения – моя тонь – ночи. Ночь без сновидения для меня, как «пропащий» день.
После необходимых пробуждений в день, я в «жизни» только брожу – полусонный: в памяти всегда клочки сна – бахрома на моей дневной одежде.
Завидная богатая доля – мой мир, какая большая реальность! – но зато и жестоко отмщается в жизни. Хотя сама явь не так уж ясна и математична, как это принято заключать с трезвого «недалекого» глаза, подумайте, одна «случайность» чего стоит! – а в сновидениях, под знаком как раз этой «случайности» не одна чепуха и несообразность.
Сон – это как разговор с «тронувшимся» человеком: слушаешь и все как будто по-человечески, но где-нибудь непременно жди, сорвется какое-нибудь не туда без основания «потому что» или определение уже очень неожиданное – будем рассказывать о говядине и вдруг говядина окажется не мясная, а «планетное мясо».
Все-таки приходится жить, как же иначе: и сон и явь крепко связаны и друг другом проницаемы. Зря только хорохориться, носиться с какими-то непреложными законами природы: «жизнь» ведь можно было бы подвести совсем под другие законы, взгляну на нее из сновидений, а не из лаборатории. Но и жить с одними сновидениями один пропад – каша и неразбериха, по себе знаю.
Часы у меня с одной стрелкой, большая отскочила и всегда спешат, я живу приблизительно, отчетливо не различая дня – вещей и происшествий. Но что я заметил: когда я обрежу себе палец, чиня карандаш или разрезая книгу или чистя картошку, кровь меня сейчас же отрезвит. Вот я и подумал кровь и есть явь и никакой яви без крови.
Еще приводит меня к жизни холод, но это тоже связано с кровью. А без еды я могу оставаться неделями, не спохвачусь – что такое голод я не знаю; и только жажда.
И когда у меня есть кофе и папиросы, как-то само собой все идет – продолжается в кровавой яви вчерашнее призрачное сновидение.
И кажется, тут бы и должен начаться интересный рассказ со всякими вывертами и превращениями и со всем комическим смехом над воображаемой уверенностью «правильного» человека – судьи «меры и числа», души вещей живых и мертвых А на поверку мне и рассказать-то особенно нечего. Не от беспамятности – теперь я могу судить себя и на дневное и на ночное, нет, моя бедность по моей природе: душа у меня… – не глубоко черпаю и вижу не далеко.
Или природа человека, весь его состав окостенел даже сравнительно со временем Шекспира и Эразма, огрубело восприятие другого мира и только что под носом да на ощупь. Или самостоятельно, на свой страх, будь ты хоть бездонным, а мало чего достигнешь. А для успеха непременно надо лестницу, как у Новалиса и у Нерваля, какую-то кабалистически-оккультную подпорку. Или эпилепсию Достоевского, алкоголь Эдгара По и Э. Т. А. Гоффманна. Вообще какой-то вывих, «порок», чтобы треснула кожа, а если переводить на речь, чтобы отчетливо зазвучал перво-звук слова.
А я прежде всего «нормальный» – здоровая кровь, крепкое сердце и легкие для певца – мне как-то даже неловко, перед теми «отмеченными», с рассеченной глубокой душой, кого люблю и чту. И в кабале и в оккультизме я ничего.
2.
Каждую ночь я вижу сны, и поутру запишу. В течение нескольких лет вел графический дневник, рисовал сон, а вокруг события дня.3
В книгах «Sur le Corniches» (По карнизам) и в «La Russie en tourmente» (Взвихренная Русь) я сделал опыт: дать переплеск сна в явь – происшествия ночи и непосредственно события дня.
Кто видит сны, не может не обратить внимания и безразлично пройти мимо своих ночей. Но обыкновенно вспоминается и рассказывают один сон, ну два, не больше.
Или бывает так: перед каким-то событием приснился сон, в памяти содержание испарилось и только остается на всю жизнь: что-то особенное снилось, но не могу вспомнить.
Так случилось с С. Т. Аксаковым, в его Воспоминаниях есть про сон роковой,4 бесследно канувший.
Сны очень коротки – или память на сны коротка? Но бывают сны «высокого дыхания» – если записывать – хватит на несколько страниц: одно за другим, точно разобранный день; бывают такие дни, начнется с утра и пойдет, все что-то совершается, и так до ночи.
И как бы ни был сон несообразен, а чем неправдашнее, тем из снов он «снее», мера дневного сознания держит его крепко, в самом сне можно ведь сказать: «Это мне снится».
В литературных снах – сны в рассказах – всегда любопытно, где «сорвется» дневное (реальное) сна. В этом срыве все искусство. Большим искусством в описании снов владел Л. Н. Толстой, наблюдавший в жизни что самому снилось и подметивший закон «беззакония» сна.
То же большое искусство у Достоевского, Тургенева, Лескова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова.
Есть сны и у Горького, хорошие, в смысле приближения к сонной душе, только «калибром поменьше».
Сонного дара лишен был до жалости Гончаров, назвавший лучшую главу «Обломова» сном Обломова, как и Короленко со своим «Сном Макара». И как это ни странно, Чехов, написавший «Черного монаха».
3.
Во сне разрушаются дневные формы сознания или надтрескиваются, и сон как бы завязает в привычных формах яви: на 2×2 отвечаешь с большим раздумием и не уверен – «кажется, говоришь, 4». Но пространство со своей геометрией и тригонометрией летит к черту, такое в горячем сне, из которого сна пробуждение, как от толчка, и скачет пульс. В будничном сне все остается на месте, как в жизни, «снилось мне вяжу чулок» (из снов нашей ягиной консьержки).
И нет ни прошедшего, ни будущего – время крутится волчком: на вчерашнее, которое представляется настоящим, наваливается, как настоящее же, и то, чего еще нет и не было, а только будет ни впереди, ни позади.
Действие во сне не «почему-то», а «здорово-живешь» и «ни-с-того, ни-с-сего». Закон «причинности» в жизни бьет в глаза – все, что делается, все из «потому что», но ведь и в жизни разве все объяснимо? А в снах полная неразбериха.
Действие во сне можно представить, как ряды нагромождений вверх. И никакого в принятом значении смысла. Подлинный сон всегда ерунда, бессмыслица, бестолочь, перекувырк и безобразие.
«Кто ничего не делает, того нельзя осудить ни за что». – А на поверку-то выходит не то: судят, да еще и как – приговаривали к высшей мере наказания!
«Тот, кто молчит, не может проговориться». – А вот поди и разболтался и всех головой выдал.