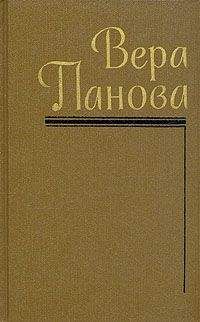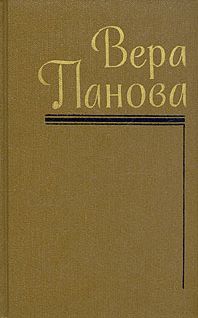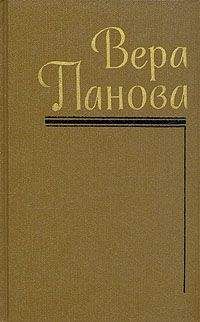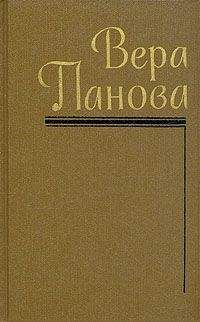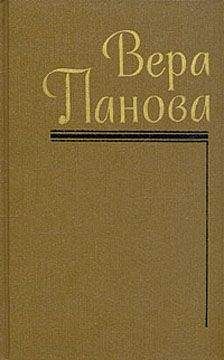Мы читали, потом пили чай с простыми сухарями. Сухарей уходило неимоверное количество: народ был молодой, здоровый.
Сейчас большинства этих людей уже нет на свете. А тогда мы только вступали в подлинную деятельную жизнь.
Своими творениями мы доставляли друг другу радость. В живом соревновании крепло наше желание быть писателями.
Большинство молодых гениев жило в Ростове. Мы с Арсением ходили их провожать через "границу" - поле, отделявшее Нахичевань от Ростова.
Как-то на Садовой у Крепостного переулка остановила нас группа каких-то парней и пыталась завязать драку. Молодые гении драться не хотели, некоторые из них разбежались, Дмитревский, как работник крайкома комсомола, пытался (безуспешно) вызвать милицию, и только маленький Сережа Деревянченко, истый сын бесшабашной Нахаловки, с готовностью и знанием дела ринулся в драку.
На другой день я должна была по поручению редакции проводить какое-то деткоровское совещание в одном из ростовских клубов.
Провела я совещание, выхожу на улицу, меня останавливает незнакомый человек: долговязый, несуразно одетый - длинный плащ с капюшоном, на глазах синие очки, длинные белокурые волосы прядями спускаются на плечи.
Я даже отступила. Но незнакомец спросил:
- Товарищ Панова, вы меня не узнаете?
И я по голосу узнала Вахтина.
- Что за маскарад? - спросила я.
Оказалось, что вчерашние драчуны его таки поколотили, в частности посадили ему под глазом огромный синяк. Поэтому, отправляясь нынче сюда, в клуб, где, как он знал, он встретит меня, он надел синие очки. А потом решил надеть и чью-то старую тальму, чтобы я его не узнала.
- Ну, и на кого я похож? - спросил он.
- На народовольца, - сказала я первое, что пришло в голову.
- Правильно, - сказал он.
- А глаз болит? - спросила я.
- Нет, - отвечал он, - глаз я вылечил сразу, на месте: просто приложил его к фонарному столбу, столб железный, холодный - помог.
Я хотела было сказать ему, чтобы он приходил к нам, но подумала: "Нет, пусть сам придет, без приглашения", - и он пришел в тот же вечер.
Мне уже было ясно, что без него мне дом - не дом, и я - не я, и жизнь - не жизнь. Но о разрыве с Арсением я даже подумать боялась. Мне казалось, что это бесчеловечно, невозможно - отнять ребенка у отца. Потому что я ни за что не рассталась бы с Наташей.
И вдруг не кто иной, как Эмка Кранцберг, Экран, старый и закадычный товарищ Арсения, задал мне вопрос:
- Скажи, Вера, ты еще долго будешь тянуть эту лямку с Сенькой?
Я спросила.
- То есть как это?
- Да так, - сказал Эмка. - Тебе он давно гиря на ногах, как будто я не вижу. Ты давно его переросла.
- Эммочка, - сказала я. - Я не могу так рассуждать. Что значит "переросла"? Я этого не понимаю. Что же, по-твоему, бросить его?
- Не то слово, - сказал он. - Не бросить, а бежать без оглядки, если хочешь чего-нибудь добиться. С ним ты пропадешь.
- А он пропадет без меня, - сказала я.
- Ничего, - как-то странно произнес он. - Не пропадет. С тобой ему тоже уже трудно дышать.
Понятно, я не сделала из этого разговора никаких выводов. Все оставалось по-старому. Зачем было устраивать в своей жизни такой переворот, когда я не знала даже, может ли Борис меня любить. (Намеку Кранцберга, что Арсений меня разлюбил, я не поверила; ужасно я тогда была самоуверенная дуреха.)
Развязка пришла скоро.
В декабре 1927 года я сильно заболела: у меня сделался тяжелый приступ аппендицита. Вызванный врач поставил неверный диагноз, и, вместо того чтобы срочно оперировать, меня оставили жить с моим аппендиксом.
Второй приступ, в январе 1928-го, был гораздо более жестоким и напугал семью. Пригласили врача из клиники, знаменитого нашего хирурга профессора Н. А. Богораза.
Он сказал, что лучшее время для операции упущено, что сейчас оперировать нельзя, так как возник гнойник, но что, безусловно, нужно поместить меня в клинику, а уж там определят момент, когда будет возможно хирургическое вмешательство.
Он сказал, что болезнь эта сложная и опасная и что в клинику надо положить меня завтра же.
В тот вечер, как всегда, собрались у нас ребята. Были Экран и Дмитревский, пришел и Боря Фатилевич с женой. Я смотрела на них печально: в тот вечер они все были мне не нужны. Погоревав, я подозвала Экрана и шепнула ему:
- Эммочка, найди мне Бориса Вахтина, я хочу и с ним попрощаться.
Уж не знаю где, но добрый, милый мой Экранчик нашел Вахтина - через полчаса они вместе входили в комнату.
- Боря, - сказала я, - завтра меня увезут в больницу, я хотела с тобой попрощаться.
А он сказал вдруг: "Деточка моя", и это получилось не прощанье, а словно бы встреча после разлуки.
Никогда Арсений не говорил мне таких слов. Он бы, наверное, счел их мещанскими.
С каким просветленным сердцем я на другой день ехала в клинику! Каким сиянием с того вечера была окрашена каждая моя минута! Как твердо я знала, что Борис в первый же день придет меня проведать, и он пришел! И никогда меня не обманывала моя вера в него! И если впоследствии мне пришлось заплатить за эту любовь величайшим горем, то было за что платить!
В клинике профессора Богораза меня сначала положили в большой, густо населенной палате, где мне сразу прожужжали уши о всевозможных ужасах. Как раз накануне в изоляторе кто-то умер от гнойного аппендицита, и мать умершего прибежала в нашу палату с криками: "Зарезали, зарезали!" Но потом Володя Дмитревский ухитрился устроить так, что меня перевели наверх, в изолятор, в маленькую палату, где кроме меня помещалась еще только одна больная.
При этом Володя использовал не столько свой служебный авторитет работника крайкома комсомола, сколько какое-то свое собственное недомогание, посоветоваться насчет которого он отправился к самому профессору Богоразу. Профессор заинтересовался этим недомоганием, а попутно Володя и выхлопотал для меня, как для работника пионерской газеты, палату в изоляторе, а заодно и пропуск для себя, дающий право навещать меня каждый день.
Вначале он пользовался этим правом, потом передал пропуск Борису, а потом дела мои приняли такой оборот, что и мама, и Леничка, и Арсений, и Наташа со своей няней Варей беспрепятственно приходили ко мне когда хотели, а мама от меня почти не отходила.
6 февраля мне сделали операцию - благополучно удалили аппендикс, все шло хорошо и вдруг пошло очень плохо - началось гнойное воспаление брюшины. Я не понимала, что значит, когда температура утром 35°, а вечером 41°, но я очень хорошо понимала, почему так строг и холоден вдруг стал со мной мой лечащий врач доктор Геккер, прежде отечески ласковый ко мне, и почему, когда меня теперь везут на носилках в перевязочную, то все встречные отводят глаза, стараясь не встретиться со мной взглядом.
Взглядывая в зеркальце, я видела острый, как лезвие, чужой нос, а ногти на руках моих стали лиловыми.
Вдруг, уже в середине марта, пришли за мной днем санитары и повезли в перевязочную. Я удивилась - перевязки в этот день не должно было быть - и подумала, что санитары ошиблись. Но в перевязочной стоял профессор со всей своей свитой, и по его знаку меня сразу положили на стол. Я сказала профессору:
- Николай Алексеевич, ну зачем меня еще мучить (перевязки были очень болезненны), ведь я все равно умираю.
Он не стал меня разубеждать, а только сказал:
- Но ведь я обязан сделать все, что от меня зависит, правда?
И тотчас я почувствовала запах хлороформа - над моим лицом очутилась маска. И проснулась я только утром следующего дня на своей койке. Проснулась от боли повыше колена - это мне вливали физиологический раствор. Оказалось, что профессор Богораз, не предупредив ни меня, ни моих близких, сделал мне операцию, которая одна могла меня спасти. Впоследствии, когда я уже поднялась, доктор Геккер говорил мне:
- Эта операция войдет в историю хирургии, он - отчаянная голова, но и талант же.
Я не знаю подробностей этой операции, знаю лишь последствия: перестала скакать температура, исчезли все зловещие признаки близкого конца, я стала неправдоподобно много есть.
Очень скоро я подошла к окну и увидела зеленые ветки сада и синее небо, потом вышла в коридор и пошла по клинике. Правда, при всем том я весила перед выпиской из клиники 36 килограммов.
Опять все приходили меня проведывать, и все поздравляли, и я чувствовала себя отмеченной милостью судьбы.
Через много, много лет, в 1950 году, в перечне лиц, награжденных Государственной премией, я услышала по радио имя профессора Богораза. В том же перечне было и мое имя, я была награждена за повесть "Ясный берег". Я дала Н. А. Богоразу телеграмму, где были слова:
"Много лет назад в Ростове-на-Дону ваше умение, смелость и талант спасли мне жизнь".
Он тогда уже работал в Москве, в 1-м Медицинском институте. Многих спас Николай Алексеевич. Но, может быть, ему все-таки было приятно получить и мою телеграмму.
Между прочим, когда я его узнала, он был инвалидом - обе ноги были ампутированы. Рассказывали, что несколько лет назад он попал под трамвай. Его доставили в клинику его имени. Он распорядился, чтобы ноги были немедленно ампутированы, и сам руководил операцией, лежа под ножом.