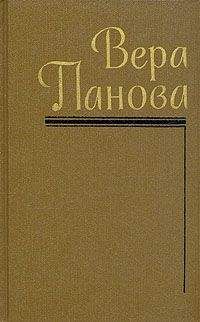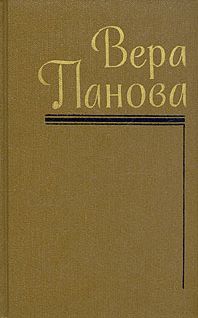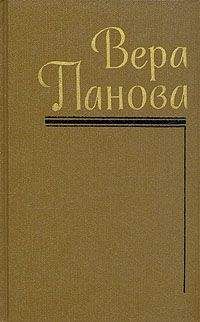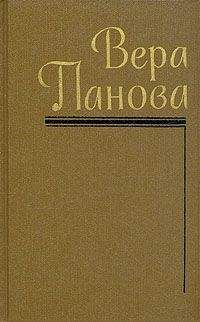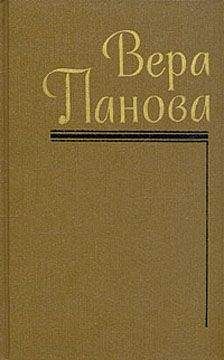- Неужели сын?
- Ну конечно, сын, - ответил Борис, и они очень рассердились, что не помешало им в тот же вечер явиться к нам с целыми снопами белых хризантем.
Борис работал в отделении "Комсомольской правды" заместителем заведующего, а заведующим был Володя Третесский. Через несколько дней после рождения сына отцу пришлось уехать в командировку в Москву. И что же, я изо дня в день видела, как хорошеет наше дитя, которое отец встретил таким разочарованным "м-да". Я с нетерпением ждала возвращения отца, чтобы предъявить ему это, как мне казалось, чудо, и не утерпела телеграфировала, что наш сын неслыханно похорошел. Я боялась, что он мне не поверит, но была вознаграждена за все, когда, вернувшись и подойдя к ребенку, лежавшему на моей кровати, он сказал:
- Какой хорошенький!
Летом 1931 года мы с Борисом и с детьми (Наташей и Борей) поехали в Шишаки, село Полтавской области. Там Борис представил меня своей матери Марии Петровне Колтовской (по второму мужу) и ее старинной подруге Марии Владиславовне Кошевой, урожденной Коробко. Эти две Марии были подругами со времен института, где обе они воспитывались. Благодаря М. В. Кошевой семья Вахтиных знала и любила село Шишаки: у Марии Владиславовны там был домик, оставленный ей ее матерью, сельской учительницей. В домике были три комнаты и кухонька, а при домике - сад, огород и все, что полагается, любовно хранимое и ухоженное. И сама Мария Владиславовна, хозяйственная, опрятная, добрая, с ловкими движениями и вкусной полуукраинской, полурусской речью, очень была привлекательна.
Мать же Бориса, в прошлом красавица несколько итальянского типа (она была урожденная Арнольди), в то время еще была хороша собой и очень моложава, хотя ей было уже под пятьдесят.
Там прожили мы июль и август 1931 года, купались в Псле, дышали, радовались.
Осенью мы вернулись оттуда в Ростов, все было пошло по-старому, и вдруг Борис упорно заговорил о переезде в Москву.
Туда уезжал Третесский - служить в "Крестьянской газете", загорелось и Борису, он стал просить Третесского найти ему работу в Москве. Мне не хотелось, но когда Борис уехал (Третесский устроил его в многотиражку на завод "Электропровод") и написал мне, что у него есть комната и что он меня ждет, то, конечно, поехала и я. Ехала с каким-то смутным страхом (до этого я только раз, осенью 1931 года, была в Москве), но поначалу все показалось очень мило: ласковый, довольный моим приездом Борис, неплохая комната - правда, в полуподвальном этаже - на шоссе Энтузиастов (нравилось название) за Рогожской заставой, и с нами поселился ростовский наш товарищ Яша Волчек (ныне драматург), он тоже поступил в многотиражку "Электропровода", и к Третесскому мы часто заходили в "Крестьянскую газету" на Воздвиженку, и Володя Дмитревский к нам заезжал со своей женой Наташей, так что и друзья были, и дом, и работа. Правда, с хозяйством было трудно, даже керосин для примуса добывали по каким-то особым талонам, которые приносил Борис, из продуктов главным образом консервы, но на Мясницкой у частных торговок мне иногда удавалось купить отличное вологодское масло (кремового цвета бруски в пергаментной бумаге), а иногда в нашем плохоньком магазине продавали паштет в жестянках или сгущенное молоко, тогда мы вкусно ели. Паштет я пережаривала на сковороде с луком и маслом, и он становился нежным и вкусным. И чай со сгущенкой был совсем не то что без сгущенки.
Первую половину зимы мы прожили таким образом Мама писала нам о детишках, что все нормально, и мы считали себя устроенными. Но потом я стала хворать, и у меня на морозе стали делаться обмороки, несколько раз я падала на улице и в трамвае. Стала очень тосковать по теплу, по жаркой печке. Помню, в какое-то утро мы все не могли дождаться, когда же рассвет: что ни проснемся, все темно да темно. Пока не сообразили, что наше большое окно, выходившее во двор, почти доверху завалено сугробом (вероятно, ночью была метель). Борис пошел отгребать снег и, вернувшись, принес в ладонях крохотного мышонка, которого откопал в снегу под окном. Мышонок был жив-здоров, мы его покормили, и он до весны жил у нас в комнате, появляясь, как только мы садились за стол.
Я себя чувствовала все хуже, обморочное состояние начинало меня мучить, как только я выходила на улицу. Выяснилось, что я жду ребенка.
Так дал знать о своем приближении мой сын Юрий.
Я представляла себе, как уже теперь тепло у нас в Ростове, и мне до слез хотелось туда, к югу, к акациям, которые скоро зацветут (в Москве вокруг нашего дома всюду еще лежали пласты грязного льда). Наконец Борис благословил меня на отъезд, и я уехала.
Я нашла детей не такими лучезарно благополучными, как писала мама, они недавно перенесли ветрянку, и я полностью переключилась на них.
Началась очень сумбурная жизнь, я зарабатывала тогда мало, мы вечно ждали денег от Бориса, он тоже зарабатывал от случая к случаю, и это было трудно при такой большой семье, где все, от стара до мала, зависели от нашего благополучия.
Бабушка Надежда Николаевна стала сильно болеть.
Детишки требовали массы забот, мои обмороки не прекращались, я упала однажды на Садовой, несколько раз - у нас вблизи дома на 1-й линии. Очень трудный, помню, мы прожили год.
Весной 1932 года Борис написал, что он уходит из многотиражки и думает вскоре вернуться в Ростов. Он не назначил, когда именно, но в начале июня - помню, было воскресенье - мы сели обедать, и вдруг, подняв глаза, я со своего места увидела в окне его лицо, лицо под серой кепкой, и его плечи под черным кожаным пальто. В этом пальто в февральскую ночь 1935 года он ушел из дому уже невозвратно. В этом пальто в сентябре 1936 года я видела его в Кеми, уже в самый последний раз, в проклятой избе за колючей проволокой.
27
ЗИМА 1934/35 ГОДА
В этом году наши домохозяева продали свой дом артели ломовых извозчиков. Чтобы освободить дом от жильцов, ломовики сняли нам квартиру (очень невзрачную) в домике рабочего-застройщика Заднеулицына в доме 80в на Богатяновском проспекте (ныне проспект имени Кирова). Мы переселились туда 24 ноября 1932 года. Я принимала в переезде большое участие, передвигала и поднимала тяжелые вещи и неудивительно, что утром 25 ноября, проснувшись, почувствовала предродовые боли. Я немедленно пешком пошла в ту самую частную больничку Р. Е. Собсович, где родились оба мои старшие. Там все было, как прежде, белоснежно и педантично.
Меня, как прежде, без конца мыли, прежде чем уложить на койку, к которой было приставлено огромное кресло с приготовленной для будущего младенца постелькой.
Имея уже двойной опыт, я боялась родовых мук, и меня убеждали, что в третий раз мне покажется совсем легко. Это оказалось пустой болтовней, боли были столь же мучительны, как в первый и во второй раз, и вдобавок случилось следующее: после многих схваток мой мальчик вдруг повернулся во мне (я почувствовала этот поворот, подобный толчку, сотрясшему все мои внутренности) и пошел не головкой, а ножками. Розалия Елеазаровна и ее помощницы страшно всполошились и стали готовиться: приготовили таз с горячей водой и таз с холодной, и когда дитя вышло, его стали окунать попеременно то в один таз, то в другой, а в промежутках усердно растирать мохнатым полотенцем и делали это до тех пор, пока оно не чихнуло. Чихнув, оно стало дышать, а затем немедленно залилось голодным криком, требуя пищи. Наташа, родившись, целые сутки не просила груди, довольствуясь слабым теплым чаем с ложечки, Боря попросил грудь лишь часа через четыре после рождения, Юрочка же затребовал пищи сразу, едва глотнув воздуха. Он взял сосок губами уверенно и твердо и сразу стал сосать, словно его этому кто-то научил. Это, а также то, что он от рождения был очень похож на отца, необыкновенно сильно привязало меня к нему.
Я уверена, что если бы жизнь не разлучила нас с Борисом так рано и жестоко, то у нас было бы еще много детей, еще много красивых и умных сыновей, потому что мы были так молоды и так друг друга любили.
С рождением Юрика возникло много бытовых затруднений, маме было очень трудно управляться с тремя детишками, няньки попадались все такие, которым мы не решались доверить наши сокровища, бабушка Надежда Николаевна стала очень хворать, и маленькие дети ее беспокоили, а главное, на юге начался тот голод, от которого осталось так много могил в сельских дворах Северного Кавказа и Украины. Мы питались плохо, и у меня очень скоро стало не хватать молока для моего маленького. С разрешения врача я его стала очень рано прикармливать, так что он не голодал, но зато, отведав молочного киселька, манной каши и сладкого кофе с молоком и печеньем, он наотрез отказался от моего молока, и на этой почве между нами каждый день происходили драмы.
Потом стало полегче. Сперва Бориса, а потом и меня прикрепили как ударников к каким-то закрытым распределителям, и голодать мы перестали. На базаре появились (правда, по баснословным ценам) молочные продукты, яйца и мясо. Старших двух детей устроили в частную группу с немецким языком, там они проводили время до обеда. Борис стал работать в краевой газете "Молот", где его зарплата была выше.