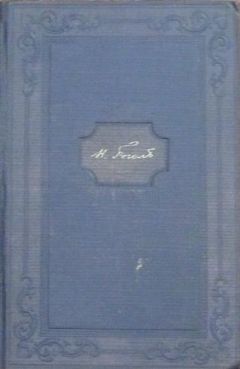„Записки сумасшедшего“ именно как записки, т. е. рассказ о себе героя, не имеют в творчестве Гоголя ни прецедентов, ни аналогий. И недаром: культивировавшиеся Гоголем и до „Записок“, и позже формы повествования к данному замыслу были неприложимы. Тема безумия во всех трех одновременно аспектах (социальном, эстетическом и лично-биографическом), которые находил в ней Гоголь, естественнее всего могла быть развернута прямой речью героя; именно, однако, героя со всей выразительностью социальной его физиономии, с установкой на речевую характеристику, с подбором острых диалектизмов ведущего свои записки чиновника. С другой стороны, эстетический иллюзионизм, подсказавший Гоголю первую мысль подобных записок, сделал возможным включение в них элементов фантастического гротеска (заимствованной у Гофмана переписки собак); естественна была при этом известная причастность героя к миру искусства. Однако, предназначавшаяся сперва для этого музыка не мирилась с определившимся окончательно типом героя, и место музыки в записках чиновника занял театр, — вид искусства, с которым одинаково удачно сочетались все три аспекта темы сразу. Александринская сцена и занесена поэтому в „Записки сумасшедшего“, как одно из главных мест развертывающейся в них социальной драмы.[61] Но иллюзорный мир театрального эстетизма у Гоголя совсем иной, чем у Гофмана. Там он утверждается как высшая реальность; у Гоголя, напротив, он чисто реалистически низводится до сумасшествия в прямом, клиническом смысле слова.
Гофману, при всей своей зависимости от него, Гоголь противопоставляет, таким образом, собственное разрешение темы — с отказом от эстетизма в пользу реалистического изображения человеческого страдания, за незнание которого упрекал Гофмана Жюль Жанен.
Гофманианская форма „новеллы об искусстве“, присущая „Запискам“ еще в ранней редакции, сохранилась, как видим, и в законченной их редакции. Но абстрактный (особенно в русской передаче) герой-фантаст Гофмана вырос в живого представителя нарождающегося „сословия среднего“;[62] его конфликт с „существенностью“ тоже конкретизировался, приняв черты социально-политического протеста и подготовив, наряду с эстетическими, и чисто бунтарские мотивы в его безумии; а так как за всем этим, несомненно, скрывается личный и социальный опыт самого Гоголя, — то, надо думать, субъективен был и исходный творческий импульс этих „Записок“; и таким образом новое социальное осмысление, приданное Гоголем теме безумия, — как теме повестей о чиновнике, — ознаменовало в его творчестве наиболее протестующий момент, момент первого сатирического выступления против бездушной системы николаевского бюрократизма.
В современной „Арабескам“ критике о „Записках сумасшедшего“ высказаны были следующие суждения.
„В клочках из записок сумасшедшего“, по отзыву „Северной Пчелы“ (1835, № 73), „есть…. много остроумного, смешного и жалкого. Быт и характер некоторых петербургских чиновников схвачен и набросан живо и оригинально“.
Сочувственно отозвался и враждебный „Арабескам“ Сенковский, усмотревший в „Записках сумасшедшего“ те же достоинства, что и в „забавной истории“ поручика Пирогова; „Записки“, по мнению Сенковского, „были бы лучше, если бы соединялись какою-нибудь идеею“ („Библиотека для чтения“ 1835, февраль).
Несоизмеримо дальновидней отзыв Белинского (в статье „О русской повести и повестях Гоголя“): „Возьмите "Записки сумасшедшего", этот уродливый гротеск, эту странную, прихотливую грезу художника, эту добродушную насмешку над жизнию и человеком, жалкою жизнию, жалким человеком, эту карикатуру, в которой такая бездна поэзии, такая бездна философии, эту психическую историю болезни, изложенную в поэтической форме, удивительную по своей истине и глубокости, достойную кисти Шекспира: вы еще смеетесь над простаком, но уже ваш смех растворен горечью; это смех над сумасшедшим, которого бред и смешит, и возбуждает сострадание“. — См. Соч. Белинского, II, стр. 226. — Повторил этот свой отзыв Белинский и в рецензии (1843 года) на „Сочинения Николая Гоголя“: "Записки сумасшедшего" — одно из глубочайших произведений…“ — См. там же, VIII, стр. 90.
Рим I. Источники текста а) Печатные
Мск — „Москвитянин на 1842 год“, № 3, стр. 22–67. Гоголь.
П — Сочинения Николая Гоголя. Том третий. СПб., 1842.
б) Рукописные
РМ7 — Автограф, с началом черновой редакции „Рима“ (так называемой „Аннунциаты“). Публичная библ-ка СССР им. Ленина в Москве. Полулист почтовой бумаги in 8o.
В настоящем издании печатается по тексту „Москвитянина“, с поправками из П.
II.
Текст „Москвитянина“ был дважды прокорректирован самим Гоголем, о чем свидетельствует ряд его записок к Погодину, относящихся к зиме 1841–1842 г.[63]
Из этих записок видно, что хотя повесть прошла через руки С. П. Шевырева, но вслед за тем Гоголь держал две ее корректуры: первую „с важными поправками“ и вторую „на сверку“. Это обстоятельство в сущности и решает вопрос о преимуществе текста „Москвитянина“ перед текстом „Собрания сочинений“ (П).
Отсутствие рукописей делает затруднительной точную датировку повести. Предельная дата устанавливается легко на основании этих же записок и авторитетного свидетельства С. Т. Аксакова, что повесть была окончена в начале февраля 1842 г., когда Гоголь „прочел ее предварительно у нас (Аксаковых), а потом на литературном вечере у кн. Дм. Вл. Голицина“;[64] наконец, дата цензурного разрешения третьего выпуска „Москвитянина“ — 11-го марта того же 1842 года. Все эти данные ведут нас к началу февраля 1842 г. Гораздо труднее определить дату исходную. Первоначальный набросок ранней редакции повести, называвшейся „Аннунциата“, Гоголь привез с собой из Рима в свой предшествующий приезд в Россию (с 26 сентября 1839 г. по июнь 1840 г.). В начале февраля 1840 г. он читал первые главы этой повести у тех же Аксаковых. Предположить, что Гоголь еще в Москве, весной 1840 г., занялся переделкой „Аннунциаты“ в „Рим“, трудно. Возможно, что он приступил к этой работе зимой 1840-41 г. в Риме, куда Погодин слал ему отчаянные требования „поддержать "Москвитянин"“, подкрепленные просьбой об этом же С. Т. Аксакова.[65] Однако, всего вероятнее, что к этой переработке он приступил уже по возвращении в Россию, зимой 1841–1842 г., во время пребывания у Погодина.
Гоголь сам назвал свою повесть „отрывком“, что должно было указывать на замысел гораздо более сложный и развитый, нежели тот, что дан в „Риме“. С другой стороны, Аксаков, слышавший начало „Аннунциаты“, категорически утверждает, что „"Рим" является переделкой этой чудной повести“. Сопоставляя эти данные, мы смело можем сказать, что „Рим“ восходит к „Аннунциате“: к ней и должно обращаться при изучении творческой истории „Рима“. К сожалению, об этой ранней редакции повести мы знаем очень мало, да и то, главным образом, из вторых рук, из свидетельств современников. Нет точных и более или менее подробных указаний на нее и в переписке Гоголя. Нам известно только, что Гоголь, приехав осенью 1839 г. в Россию, привез с собою первые главы повести из итальянской жизни, что в январе — феврале 1840 г. он читал их у Аксаковых и других знакомых, что до марта 1841 г. (в Риме) он, по всем вероятиям, к ней больше не прикасался, а зимой 1841–1842 г. переделал ее в отрывок „Рим“. Сопоставление же „Рима“ с итальянскими письмами Гоголя (см. ниже) заставляет предполагать, что впервые взяться за эту повесть Гоголь мог никак не раньше апреля — мая 1838 г. Таким образом, время написания „Аннунциаты“ определяется приблизительно двумя датами: весна 1838 г. или осень 1839-го. Точно также предположительно можно говорить и о самом замысле „Аннунциаты.“ Судя по тому, что уже гораздо позднее, по напечатании „Рима“, Гоголь в письме к С. П. Шевыреву[66] называет это свое произведение романом, и что то же выражение применяет к нему и Т. Н. Грановский, слышавший чтение первых глав, можно заключить, что оно было задумано в форме обширного эпического повествования, с широко развитой сюжетной схемой, многочисленными персонажами и т. д. С другой стороны, некоторые указания в письмах Гоголя к друзьям из Рима дают основания предполагать, что и „Аннунциата“ должна была быть „самой романической историей“ о „взявшейся, один бог знает откуда, красавице“. Если это предположение верно, то тогда в „Аннунциате“ мы имеем дело с повестью, так сказать, традиционного типа: с романической интригой на первом плане, с красавицей, влюбленным в нее князем, плутоватым посредником — слугой Пеппе и т. д.
Это всё, что можно сказать об „Аннунциате“; роман оборвался на первых главах, и Гоголь позже использовал написанное для „отрывка“ „Рим“.