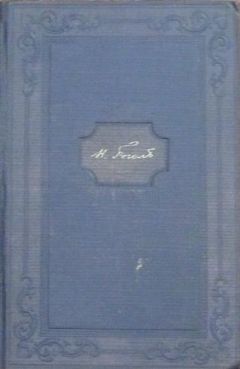Вторично при жизни Гоголя „Записки сумасшедшего“ изданы были в 3-м томе Сочинений, в 1842 году. Текст „Арабесок“ подвергся тут со стороны Прокоповича довольно значительному количеству исправлений не только орфографических и грамматических, но даже и стилистических. Из них лишь три-четыре приняты в основной текст — в тех случаях, когда соответствующий вариант „Арабесок“ явно носит характер опечатки или удержанной в печати описки. Все остальные отнесены в варианты.
Несколько раз с той же целью (исправления ошибок первопечатного текста) приходилось обращаться и к рукописи.
В издании Трушковского „Записки сумасшедшего“ авторских исправлений 1851 года не имеют совсем: чтение корректуры Гоголь прекратил тогда на их первой странице. — См. Соч., 10 изд., I, стр. XIV. —
III.
Сюжет „Записок сумасшедшего“ восходит к двум различным замыслам Гоголя начала 30-х годов: к „Запискам сумасшедшего музыканта“, упоминаемым в известном перечне содержания „Арабесок“ (см. Соч., 10 изд., V, 610–611), и к неосуществленной комедии „Владимир 3-ей степени“. Из письма Гоголя И. И. Дмитриеву от 30 ноября 1832 г., а также из письма Плетнева Жуковскому от 8 декабря 1832 г. (см. Соч. и переписка Плетнева, III, стр. 522) можно усмотреть, что в ту пору Гоголь был увлечен повестями кн. В. Ф. Одоевского из цикла „Дом сумасшедших“, вошедших позже в цикл „Русских ночей“ и, действительно, посвященных разработке темы мнимого или действительного безумия у высокоодаренных („гениальных“) натур: у отрешенного от всего, что не музыка, Баха („Себастьян Бах“), у страдающего манией грандиозных построек чудака Пиранези („Opera del Cavaliere Giambatista Piranesi“), у наделенного аналитической способностью „все видеть“ импровизатора („Импровизатор“), у настоящего, наконец, безумца Бетховена („Последний квартет Бетховена“). Причастность собственных замыслов Гоголя в 1833-34 гг. к этим повестям В. Одоевского видна из несомненного сходства одной из них — „Импровизатора“ — с „Портретом“. Из того же увлечения романтическими сюжетами Одоевского возник, очевидно, и неосуществленный замысел „Записок сумасшедшего музыканта“; непосредственно связанные с ним „Записки сумасшедшего“ тем самым связаны, через „Дом сумасшедших“ Одоевского, с романтической традицией повестей о художниках и искусстве („Kunstnovellen“), усердно культивировавшихся в русской литературе 30-х годов и охотно разрабатывавших как раз тему безумия в освещении, приданном ей у Гофмана. Есть основания думать, что „Записки сумасшедшего музыканта“, их по крайней мере начало, сохранились в виде отрывка „Дождь был продолжительный“ (см. настоящего тома стр. 331), текстуальные совпадения которого с „Записками сумасшедшего“ сразу же видны и который можно поэтому рассматривать как вступительный набросок первоначальной редакции этих „Записок“. Герой отрывка, приветствующий расправу дождя над лицемерным благообразием „гражданства столицы“, несомненно, сродни Пискареву или Чарткову, — может быть, такой же, как они и как Крейслер у Гофмана, служитель искусства.
„Владимир 3-ей степени“, будь он закончен, тоже имел бы героем безумца, существенно отличного, однако, от безумцев Гофмана и русских гофманианцев тем, что это был бы, по свидетельству современников, человек, поставивший себе прозаическую цель получить крест Владимира 3-ей степени; не получивши его, он „в конце пьесы… сходил с ума и воображал, что он сам и есть“ этот орден. — См. Соч., 10 изд., II, стр. 743. — Такова новая трактовка темы безумия, тоже приближающаяся, в известном смысле, к безумию Поприщина.
Из замысла комедии о чиновниках, оставленного Гоголем в 1834 г., ряд бытовых, стилистических и сюжетных деталей перешел в слагавшиеся тогда „Записки“. Генерал, мечтающий получить орден и поверяющий свои честолюбивые мечты комнатной собачке, дан уже в „Утре чиновника“, т. е. в уцелевшем отрывке начала комедии, относящемся к 1832 году. — См. Соч., 10 изд., II, стр. 448, 453, 744. — В уцелевших дальнейших сценах комедии (переделанных позже в „Лакейскую“) без труда отыскиваются комедийные прообразы самого Поприщина и его среды — в выведенных там мелких чиновниках Шнейдере, Каплунове и Петрушевиче. Отзыв Поприщина о чиновниках, которые не любят посещать театр, прямо восходит к диалогу Шнейдера и Каплунова о немецком театре. Особо при этом подчеркнутая в Каплунове грубость еще сильней убеждает в том, что в него-то и метит Поприщин, называя не любящего театр чиновника „мужиком“ и „свиньей“. В Петрушевиче, напротив, надо признать первую у Гоголя попытку той идеализации бедного чиновника, которая нашла себе воплощение в самом Поприщине. „Служил, служил и что же выслужил“, говорит „с горькой улыбкою“ Петрушевич, предвосхищая подобное же заявление Поприщина в самом начале его записок. Отказ затем Петрушевича и от бала и от „бостончика“ намечает тот разрыв со средой, который приводит Поприщина к безумию. И Каплунов, и Петрушевич — оба поставлены затем в те же унизительные для них отношения с лакеем начальника, что и Поприщин. От Закатищева (позже Собачкина) протягиваются, с другой стороны, нити к тому взяточнику „Записок“, которому „давай пару рысаков или дрожки“; Закатищев в предвкушении взятки мечтает о том же самом: „Эх, куплю славных рысаков… Хотелось бы и колясчонку“. Сравним также канцелярские диалектизмы комедии (напр., слова Каплунова: „И врет, расподлец“) с подобными же элементами в языке Поприщина: „Хоть будь в разнужде“; ср. еще канцелярское прозвище Шнейдера: „проклятая немчура“ и „проклятая цапля“ в „Записках“.
Связанная, таким образом, с первым комедийным замыслом Гоголя, картина департаментской жизни и нравов в „Записках“ восходит к личным наблюдениям самого Гоголя в пору его собственной службы, из которых замысел „Владимира 3-й степени“ вырос. Даже на свои собственные биографические подробности не поскупился в „Записках“ Гоголь. „Дом Зверкова“ у Кукушкина моста, куда ведет Поприщина след распутываемой интриги и который он, как оказывается, хорошо знает потому, что у него есть там „один приятель“, — это тот дом, в котором в 30-ых годах был приятель у самого Гоголя и где, кроме того, жил одно время и сам он.[59] Запах, которым встречает Поприщина этот дом, упомянут в письме Гоголя к матери от 13 августа 1829 года. О „ручевском фраке“ — мечте Поприщина — говорится в письмах Гоголя 1832 г. к А. С. Данилевскому (кстати, тому самому „приятелю“, который жил в доме Зверкова). Прическу начальника отделения, раздражающую Поприщина, отмечает Гоголь и в „Петербургских Записках“, как черту, почерпнутую, видимо, из личных наблюдений.
„Испанские дела“ 1833 г., за которыми следит Поприщин по „Северной Пчеле“, доведены Гоголем до провозглашения королевой малолетней дочери Фердинанда VII („какая-то дона должна взойти на престол“) и, следовательно, лишь до первой вспышки вызванного этим движения карлистов, сторонников Дон-Карлоса, брата Фердинанда VII, право на престол племянницы Дон-Карлос оспаривал, опираясь на закон, возбранявший женщинам вступать на престол и отмененный перед смертью Фердинандом. Дон-Карлосу прямо и вторит Поприщин, говоря, что „не может взойти дона на престол. Никак не может“.[60] Возможно, что по замыслу Гоголя Дон-Карлос 1833 года сливается в фантазии Поприщина с героем Шиллера, и что именно поэтому, попав в сумасшедший дом, Поприщин принимает его обитателей за доминиканских монахов, а больничного надзирателя — за великого инквизитора (Карлос у Шиллера отдан Филиппом в руки великого инквизитора).
„Записки сумасшедшего“ именно как записки, т. е. рассказ о себе героя, не имеют в творчестве Гоголя ни прецедентов, ни аналогий. И недаром: культивировавшиеся Гоголем и до „Записок“, и позже формы повествования к данному замыслу были неприложимы. Тема безумия во всех трех одновременно аспектах (социальном, эстетическом и лично-биографическом), которые находил в ней Гоголь, естественнее всего могла быть развернута прямой речью героя; именно, однако, героя со всей выразительностью социальной его физиономии, с установкой на речевую характеристику, с подбором острых диалектизмов ведущего свои записки чиновника. С другой стороны, эстетический иллюзионизм, подсказавший Гоголю первую мысль подобных записок, сделал возможным включение в них элементов фантастического гротеска (заимствованной у Гофмана переписки собак); естественна была при этом известная причастность героя к миру искусства. Однако, предназначавшаяся сперва для этого музыка не мирилась с определившимся окончательно типом героя, и место музыки в записках чиновника занял театр, — вид искусства, с которым одинаково удачно сочетались все три аспекта темы сразу. Александринская сцена и занесена поэтому в „Записки сумасшедшего“, как одно из главных мест развертывающейся в них социальной драмы.[61] Но иллюзорный мир театрального эстетизма у Гоголя совсем иной, чем у Гофмана. Там он утверждается как высшая реальность; у Гоголя, напротив, он чисто реалистически низводится до сумасшествия в прямом, клиническом смысле слова.