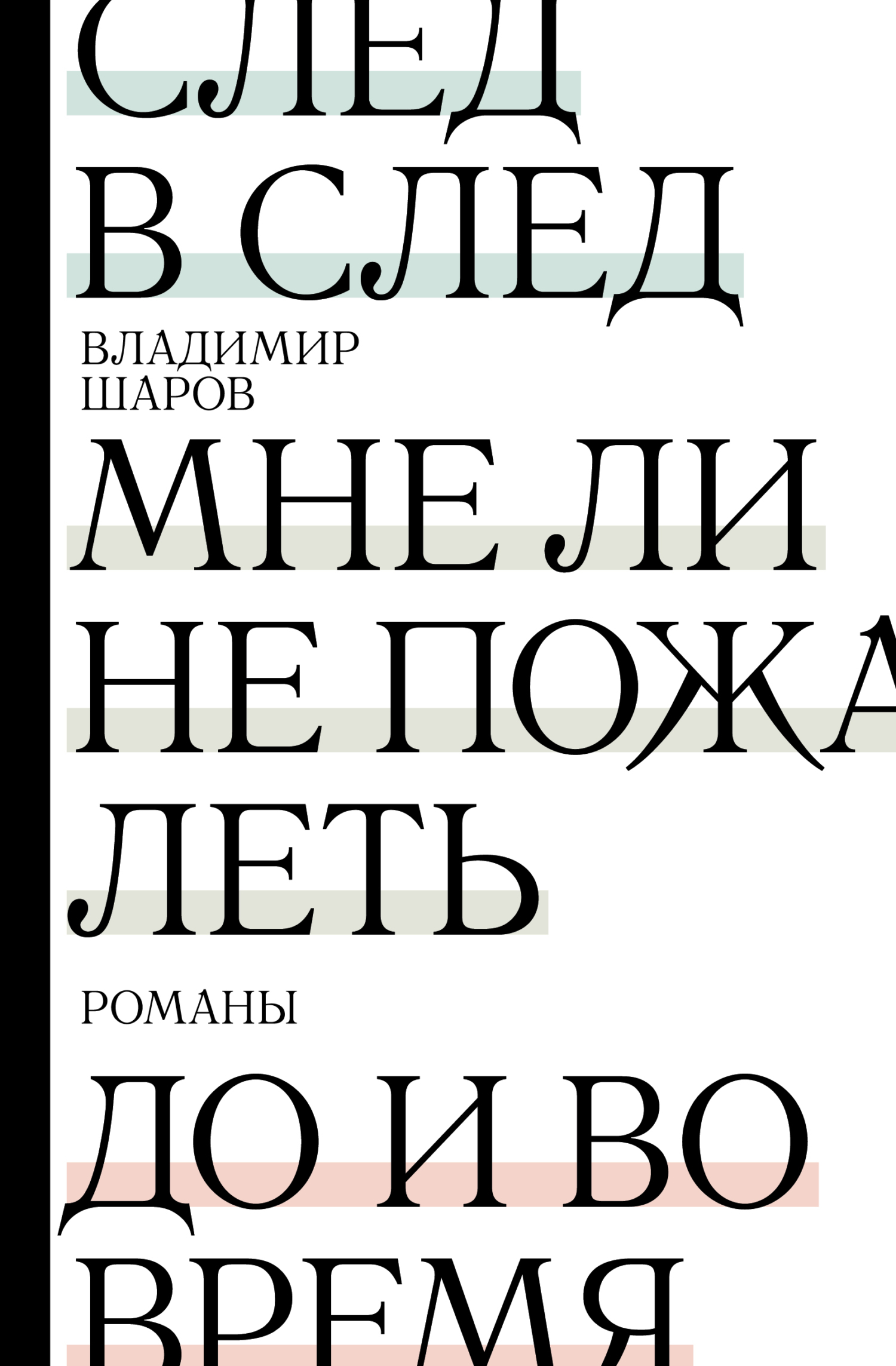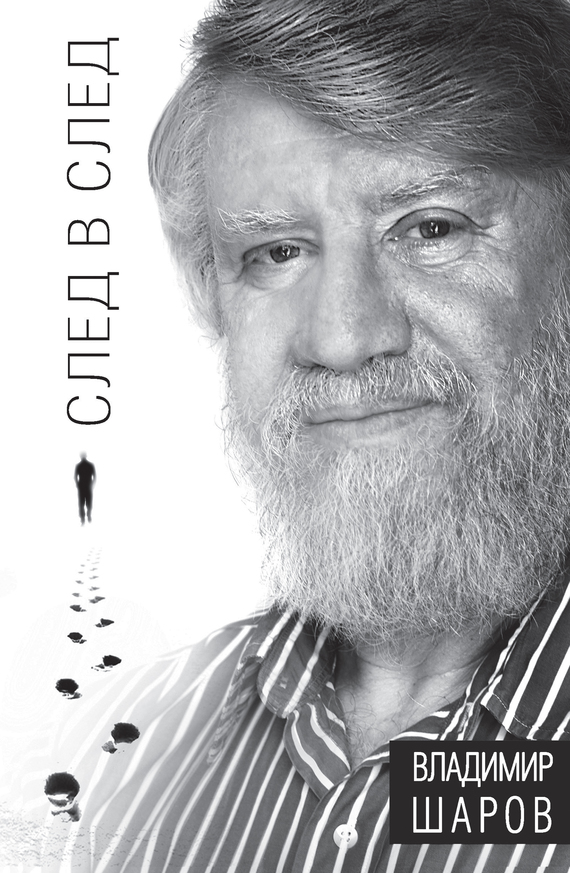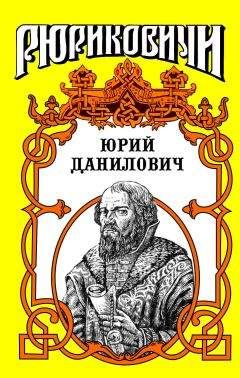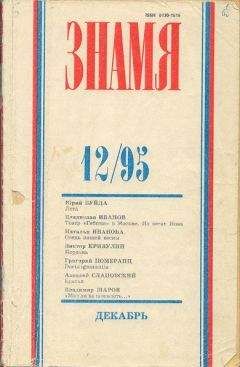свое назначение – ни зрителей, ни статистов они не признавали. Большинство здешних обитателей были навсегда обращены внутрь себя и не замечали происходящее в миру, но пара, как хороший массовик-затейник, легко включала в свое действо и их, она вообще явно к старикам тянулась.
Театр возникал спонтанно, из ничего, вел его всегда один и тот же дуэт, участники которого смотрели, видели только друг друга. В этом смысле дуэт был замкнут, закрыт так же, как и прочие больные, – но в действии было столько натиска и страсти, что оно без сопротивления вовлекало в себя каждого, кто был рядом; всё вокруг этой пары начинало жить и жило, пока дуэт сам собой не распадался. Тогда отделение разом успокаивалось, приходило в норму. Не могу сказать, чтобы пара заинтересовала меня с первого дня, – по большей части я проводил время в обществе тех интернатских воспитанников, о которых расспрашивал Кронфельда, – но не заметить ее было трудно.
* * *
Выше я уже говорил, как боялся, не мог ни на что решиться, когда возник разговор о госпитализации. Более того, если бы не давление матери и тетки, я бы, наверное, вообще не лег к Кронфельду. Но первые несколько дней в больнице прошли неплохо, я исполнился оптимизма, и, главное, во мне как-то сразу всё уравновесилось, я был спокоен и после большого перерыва впервые начал работать. К несчастью, светлый период продлился недолго.
Еще перед тем, как ехать в больницу, я дал себе слово возобновить «Синодик». Я решил, что при всех условиях буду трудиться каждый день, составил четкий план, о ком и в какой последовательности писать; теперь у меня всё это пошло. Даже о тех, о ком я собирался рассказать кратко, только помянуть, потому что во мне от них мало что осталось, на бумаге я стал один за другим вспоминать новые и новые эпизоды, слова, жесты, выражения лица; работал легко, почти не останавливаясь, о каждом мог писать еще и еще, все они действительно как бы ожили и вернулись. Это были очень счастливые дни: я чувствовал в себе силу, чувствовал, что мне дан едва ли не дар воскрешения, а потом, на исходе второй недели, работа оборвалась.
В больнице я особенно много молился, мне было о чем просить Господа, было за что Его благодарить; я молился, как привык еще в детстве, дома: со слезами, со всякими ласковыми присказками, благо в палате никто не обращал на меня никакого внимания, а тут (дату я помню точно) на двенадцатый день моей больничной жизни я почувствовал, что меня никто, абсолютно никто не слышит. И как бы даже никого нет – всё пусто, всё ушло, умерло. Тогда во мне и начался страх. Была уже ночь, я так и лег, недомолившись, а утром, когда встал, работать уже не смог.
Дня через три после этой ночи я снова присутствовал на одном из интернатских семинаров. Точно, как была сформулирована тема, сказать не могу, потому что запоздал, но о чем шла речь, было вполне понятно. Собравшихся занимал вопрос об историчности известных лиц, в частности, Сталина и Христа. О Сталине монотонно и бесцветно докладывал некий Сергей Прочич, назвавшийся учеником знаменитого исследователя русской сказки Владимира Яковлевича Густавса. То, что он говорил, было не его изысканиями, а изложением большой, начерно законченной работы самого Густавса. Несмотря на скучный голос, было видно, что Прочич восхищается учителем, гордится им. Он явно любил Густавса, был к нему привязан, но плохо умел это выразить. Всё, что получалось у Прочича, – ненужная значительность, когда он повторял слова наставника.
Густавс начал собирать материалы о Сталине еще в двадцать третьем году и продолжал до дня своего ареста и гибели, то есть до тридцать восьмого года. Работа делалась фундаментально: одних выписок, по словам Прочича, было больше десяти томов. Формирование образа Сталина было рассмотрено Владимиром Яковлевичем во всех жанрах и видах искусств, от частушек до симфоний, и во всех регионах страны, включая Камчатку.
Разумеется, подробно перелагать здесь доклад Прочича я не буду, тем более что главный вывод исследования, основанный на анализе тысяч источников, нами был принят (во всяком случае, с ним никто из собравшихся не спорил). Его я и повторю. Густавс был убежден, что Сталин – фигура чисто мифическая. В этом духе Прочич нам его и цитировал: «Никакого Сталина никогда в помине не было. Настоящий Сталин, Сталин, который ест и пьет, – такой же нонсенс, как живая птица Феникс», – и так далее.
Сталина Густавс считал величайшим достижением народного гения. «Я всегда говорил, – писал он, – что единственный истинный художник – народ. Кого поставить рядом со Сталиным? Мы любим его как творение своих рук, – и продолжал: – Сколько вдохновения, мудрости и любви понадобилось, чтобы его создать! Сотни тысяч, миллионы безымянных талантов творили его день за днем, год за годом, – и он удался на славу. То было поистине всенародное дело!»
С этим тезисом Густавса мы, повторяю, согласились, тема была исчерпана, и тут Прочич неизвестно почему вдруг истошно, по-бабьи стал кричать: «Сталина не было! Нет! Нет! Не было! Никогда не было! Не было его, нет!». Он долго так кричал, потом голос его стал сбиваться, захлебываться, всё превратилось в какое-то невнятное причитание, и только тогда его наконец удалось увести.
Я уже говорил, что собрания проходили в небольшом холле на втором этаже, где в обрамлении росших в кадках пальм стоял телевизор; в нашей больнице, в отличие от других, это было самое тихое место. Дело в том, что никто из здешних пациентов не понимал телевизионного изображения (кажется, что-то тут было связано с частотой строк, или кадры менялись так быстро, что больные за ними не успевали). Единственное, что они могли смотреть, – мультфильмы. Мультфильмы им даже нравились, и врачи, считавшие, что чем больше их нынешняя жизнь будет похожа на прежнюю, добольничную, тем лучше, железной рукой сгоняли их на передачу «Спокойной ночи, малыши», когда, как известно, показываются мультики. Пока они смотрели телевизор, мы не спеша гуляли по коридору, после отбоя же снова вернулись в холл и продолжили наши штудии. Сталина никто больше не поминал, с ним всё было ясно, но некоей оппозицией тому, о чем говорилось дальше, он стал.
Разговор начался с обсуждения недавней сенсации – Туринской плащаницы, той самой, которой было обернуто тело Христа, когда Его клали в гробницу и на которой отпечатался и сохранился до наших дней Его облик. Ее находка убедила последних скептиков, что такой человек или Богочеловек действительно был, что две тысячи лет назад Он жил и ходил по земле Палестины, потом был