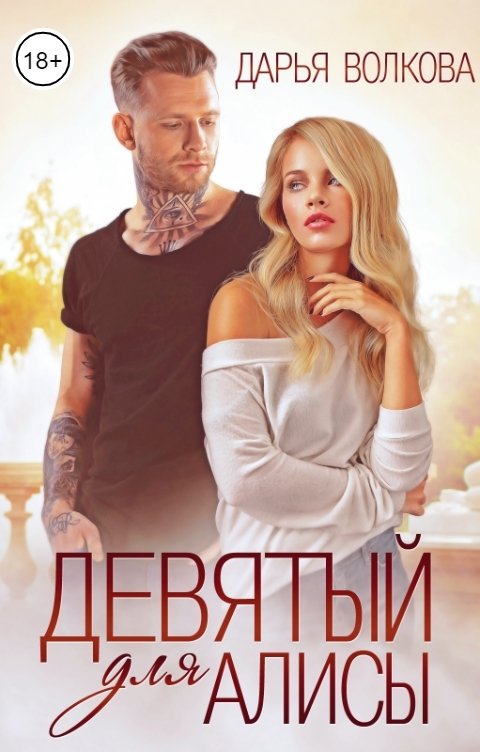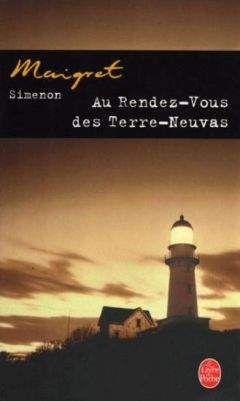она всегда черновик? Настоящим чистовиком может быть только текст, или только картина, когда художник покончил с набросками, и с этюдами, и с вариантами и положил последний слой лака, и тогда — все, тогда это уже навсегда. Она уже навсегда, потому что она выхвачена из времени. Поезжай в Брюгге, посмотри на Мадонну каноника ван дер Пале, на самого каноника ван дер Пале с его артритными руками, его вздувшимися на висках венами. Каноник ван дер Пале уже навсегда такой, и Младенец навсегда такой, пухленький, голенький, и попугай в ручонках у Младенца такой же зеленый. Пока мы во времени, мы в черновике, и все наши попытки прожить какую-то настоящую жизнь — иллюзорны. Жизнь всегда не настоящая, потому что она не стоит, потому что она всегда движется, всегда изменяется. Время отрывает нас от нас же самих. Наша жизнь чужда нам самим, потому что тот, кто только что был нами, ежесекундно падает в прошлое. Мы были, и это еще мы — но это уже не мы. То, что было только что, — вот его уже нет. Вот и дяденька (как ты выражаешься) докурил свою папиросу. Вот он захлопывает книгу, вот он встает, вот он уходит. Все, спектакль окончен. Потому в жизни все всегда случайно, всегда предварительно. Мы пытаемся навести в ней порядок, но порядка в ней нет. Порядок бывает на картине художника, но не в его мастерской. В мастерской все набросано. Картина уже не набросок, а в мастерской все набросано. А мы хотели бы, ну конечно, чтобы наша жизнь была не мастерской, а картиной. Войти в картину — вот чего мы хотели бы. Ты в какую вошел бы? Ты вошел бы в «Данаю», не сомневаюсь. (Ему, я видел, было больно смеяться. Он поправил халат и поежился от боли, но все-таки досмеялся до того предела, где и здоровым перестал бы смеяться). Ты вошел бы в «Данаю», кто ж сомневается. А войти в картину можно лишь в вечности. Время — мастерская, вечность — картина. Но мы ведь в вечность не верим. Они верили (проговорил он, чуть взмахивая белой рукою, как если бы какие-то еще веровавшие в вечность
они стояли рядом, в том же коридоре, среди тех же запахов, у того же окна); они верили, но мы-то уже не верим.
Уже не верим. Я этому уже не придал, разумеется, того значения, которое придаю теперь, после Мариных ветрощитных рассказов. И его филиппике по поводу первого появления патриарха рядом с Ельциным (в телевизоре) я тоже не придал большого значения; запомнил только непривычную ярость, необычную страсть в его голосе; списал ее на нездоровье, на больничную скуку. Никогда, на моей памяти, даже в самое беспросветное время, не говорил он о политике с такой страстью и яростью (впрочем, в беспросветные времена волноваться уже как будто и не о чем). У нас что, церковь не отделена от государства (говорил он, вновь принимаясь, в своем больничном халате, ходить по благоухающему мочой и антисептиками коридору; даже, к моему изумлению, чуть-чуть, но совсем чуть-чуть, ускоряя шаги, так что Ахиллес уже не обгонял черепаху)? Был царь и патриарх; теперь будет президент и патриарх? Теперь, что же, начинается власть клерикалов?.. Особенно возмутило его, что какие-то, как он выразился, окладистые попы шли в первых рядах бесконечной процессии на похоронах трех несчастных мальчишек, погибших под танками. Этих мальчишек уже не спросишь. Они были, получается, такие набожные, эти мальчишки? Обычные были советские мальчишки, пионеры, потом комсомольцы. И что, вот так сразу все изменилось? Вот так вдруг все уверовали? Над их трупами всякий волен теперь измываться. А потом еще объявили, что одного из них будут хоронить «по иудейскому обряду». «По иудейскому обряду», как же! И это из уст телевизора, где столько лет слово «еврей» не произносилось вообще, а если произносилось, то лишь в убийственном словосочетании «лицо еврейской национальности» (что один остроумец определил как перевод с русского на советский выражения «жидовская морда»). Какая пошлость, какая запредельная фальшь. Были времена подлые, теперь, похоже, наступают пошлейшие.
Пошлейшие или нет, но времена «Сникерса» точно. Через, кажется, год, когда — уже окончательным мюнхенским жителем, счастливым папой только что родившейся Лизы, — я опять прилетел в Москву, мы снова шли с ним (почему-то) мимо Центрального телеграфа (как странно, думал я, глядя из окна «Астон Мартина» на уже готовую опять смениться Германией Бельгию, что мы ходим все по одним и тем же, навязчиво повторяющимся маршрутам; и когда переезжаем в другую страну, другой мир, начинаем ходить по другим, но так же навязчиво повторяющимся маршрутам; а если вдруг возвращаемся в прежний мир, то и прежние маршруты начинают навязчиво повторяться; а мы-то уже не те, уже не отсюда, уже здесь чужие), и так же, значит, пройдя мимо Центрального телеграфа, не пошли по Тверской, но вновь свернули в улицу Огарева, уже, кажется, переименованную или еще не переименованную обратно в переулок с патетическим названием Газетный; навстречу нам шел парнишка с шоколадкой «Сникерс» в грязной руке, потом шла девушка с шоколадкой «Сникерс» в руке, неумело нама- никюренной, потом шла толстая мама с толстенькой дочкой и шоколадкой «Сникерс» в ручонках у дочки, весело трясшей розовым бантиком. От каждого по способностям, каждому по «Сникерсу»! Вот лозунг нашего нового времени (провозгласил Яс). Он в этом новом времени (времени «Сникерсов», малиновых пиджаков, старушек, торгующих носками и шарфиками в подземных переходах, свободы, подступающего отчаяния, анекдотов о новых русских) освоился, я так понимаю, не сразу; если Мара не обманула меня, то еще расплачивался с долгами; новым русским не сделался, да и не хотел, наверно, им делаться; но к середине 90-х встал снова на ноги; одну из дочек, выдав замуж, переместил уже в Калифорнию; с другой и с Тамарой Сергеевной в 1995 году прилетев в Мюнхен, опять сорил и бросался деньгами, по своей всегдашней привычке; отправив семейство на дорогой австрийский курорт, поселился, нет, не в «Четырех временах года» на Максимилианштрассе и не в «Баварском дворе» в самом центре (где проходили и проходят каждый февраль так называемые «конференции по безопасности», сопровождаемые ежефевральскими же парализующими город протестами), но в гостинице тоже очень шикарной (какой мы с Кариной в ту пору еще не могли бы позволить себе; через пару лет уже смогли бы, если бы вдруг захотели); в нашу тогдашнюю квартиру в Шва- бинге зашел, кажется, всего один раз, немедленно влюбил в себя трехлетнюю Лизу,