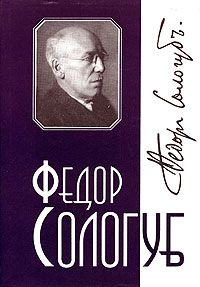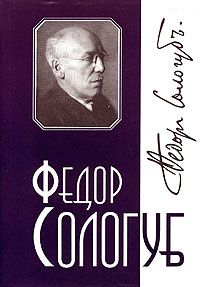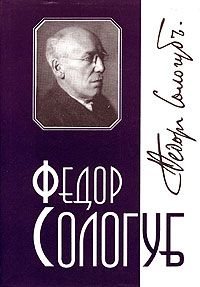Итак, к великому труду призывает нас новое искусство, к труду преображения жизни нашей, к подвигу восстановления свободной души в человечестве. Это – труд, превышающий силы человека и возможный лишь в состоянии того экстаза, который рождается в душе человека лишь под влиянием высоких внушений искусства. Жаждою подвига все более и более проникается современное искусство, жаждою бодрой и деятельной жизни, ярких красочных впечатлений, смелой и свободной живописи, совсем не похожей на то, что мы привыкли видеть в музеях. Это соответствует волевой, стремительной душе современного демократического общества, того общества, в которое непрерывно входят широкие потоки вновь приобщающихся к благам культуры варваров. Эти варвары вносят некоторую смуту во все наши понятия и о жизни, и об искусстве, но зато вливают свежую кровь в вялые вены дряхлеющего мира. И не большая беда в том, что в Италии последователи Маринетти хотели бы уничтожить произведения старого искусства и что у нас в России кто-то хочет музеи картин заменить музеями вывесок; для наших городов не будет обидно, если юные художники будут разрисовывать вывески. И счастье современной цивилизации, что расшатывающие ее варвары приходят не из далеких пустынь, а из дебрей наших же городов; не гунны грозят Риму. 10. Так жаждем подвига.
Славнейший подвиг и величайшая жертва – подвиг, приводящий к смерти, жертва жизни.
Вопрос о смерти с такою же неодолимою силою влечет многих современных поэтов, как и вопрос о смысле жизни.
По-видимому, нам, находящимся в жизни, совершенно неестественно любить смерть. Мы привыкли думать, что смерть страшна, безобразна и бессмысленна, что она отнимает от жизни весь ее смысл. Стоит ли жить, если все равно придет смерть? А между тем только смерть и дает весь смысл жизни, и без нее она была бы бессмысленна, как процесс, бесконечно, а стало быть, и бесцельно продолженный.
Смерть, подводя итоги всем жизненным явлениям, укрощая всякую вражду и злобу, разрешая все противоречия, спасая от нестерпимого, не только осмысливает, но и освящает жизнь. Все мы знаем, что вместе со смертью в дома наши входит торжественное, умиротворяющее настроение.
Метерлинк говорит, что если бы люди чаще вспоминали о смерти, то они относились бы к жизни и друг к другу с большею нежностью, осторожностью и вдумчивостью.
О смерти еще Боратынский говорил:
О дочь верховного Эфира!
О светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса
Когда возникнул мир цветущий
Из равновссья диких сил,
В Твое храненье Всемогущий
Его устройство поручил.
И ты летаешь над твореньем,
Согласье прям его лия
И в нем прохладным дуновеньем
Смиряя буйство бытия
А человек! Святая Дева!
Перед Тобой с его ланит
Мгновенно сходят пятна гнева,
Жар любострастия бежит.
Дружится праведной Тобою
Людей недружная судьба.
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба
Недоуменье, принужденье –
Условье смутных наших дней;
Ты – всех загадок разрешенье,
Ты – разрешенье всех цепей.
Все великое в жизни приходит к нам вратами жертвенной смерти. И всякий, кто, смертельно тоскуя, изнемогая в непосильной борьбе со злом нашей жизни, самовольно приближает к себе великую разрушительницу бедствий нестерпимых, бросает в душу нашу великий и правый укор безобразию и злу нашей жизни.
Жертвенною смертью преобразится мир, смертью и искусством. Этими двумя одинаково, потому что искусство своим возвышающим и очищающим влиянием на жизнь воистину подобно смерти. Жаждем невозможного, того невозможного, что мыслится нами как необходимое для нас, – испытываем, по выражению Минского, жажду жгучую святынь, которых нет, – и что же на земле может утолить эту жажду, кроме искусства, подобного смерти невозмутимым совершенством своим?
11. Так как все связано в жизни нашей, то и творчество в искусстве влечет за собою творчество в жизни. Особенно искусство наших дней, все проникнутое волевыми элементами. Чем более насыщено искусство творческою энергиею, тем более энергия эта переливается в жизнь. Искусство идет впереди жизни и требует от нее творческого подвига, заражает жизнь жаждою этого подвига. Где искусство не выполняет своей верховной, руководящей деятельности, там жизнь обращается из деятельного, хотя и подражательного искусству подвига в быт, от искусства независимый, но зато застойный. Искусство, идущее за жизнью, знаменует всегда эпохи застоя, хотя бы и блистательного. Если в искусстве торжествует быт, это значит, что жизнь обнесена Китайскою стеною и тоскует в плену застойного быта. А искусство, возвратившееся к жизни, становится, если верить парадоксальному утверждению Оскара Уайльда, просто плохим искусством.
Но почему становится возможным творчество жизни? Творить жизнь может и хочет только тот, кто смеет сказать «Я». Только ставящий себя в центр мирового процесса может найти в себе достаточно силы для того, чтобы целью своей деятельности поставить творчество жизни. Где личность подавлена, там творчество невозможно. Возможна лишь тоска по творчеству, тоска пророческая, потому что за периодами застоя и угнетенности всегда следуют периоды повышенной деятельности.
Тоска по свободному и деятельному проявлению творчества, тоска скованных творческих сил сказывается иногда в искусстве преувеличенным культом личности, как это и было в тот недолгий период, когда русский символизм пребывал в стадии самоуглубленного индивидуализма. Подавленная в жизни, в утешающей мечте личность вознаграждала себя за свой плен пророческими представлениями. Отсюда возникало чистое выражение суверенного Я, надменный солипсизм или эгоцентризм, бывший только кратким, но значительным переходом к современному состоянию русского символизма.
Это самосознание личности, становящей себя в центре мирового процесса, было выражено, между прочим, в моей статье «Книга совершенного самоутверждения» и в моей поэме «Литургия Мне».
Полагая единственною основою всякого возможного познания только свое ощущение, каждый придет к выводу, что единственное достоверное бытие – мое бытие. Все же, что мне является, для меня только образ моего воображения, и весь мир становится для меня только моим представлением, как и для каждого. И потому солипсист говорил: «Все и во всем – Я, и только Я, и нет иного, и не было, и не будет» («Книга совер-ш<енного> самоутвержд<ения>»).
Это не значит, что другие люди – мои призраки. Для солипсиста другой человек – другое Я, столь же ценное.
Здесь, с вами, и в ином пределе,
Во всех просторах бытия,
И в каждом духе, в каждом теле,
Все – Я. И все лишь только Я
(«Литургия Мне»)
Все – Я, а что же внешний мир, такой яркий, назойливый, красочный и в то же время такой враждебный мне? Враждебный, но и такой привычный, такой легкий, так сразу воспринятый с детских лет, воспринятый с такою легкостью, как будто я прихожу на землю уже не первый раз и уже не узнаю предметов вновь, а только воспоминаю их. Может быть, эта легкость восприятия мира, эта врожденная привычка к нему, это знакомое многим ощущение того, что некоторые переживания уже знакомы мне по какой-то неведомой прежней жизни, – может быть, все это указывало солипсисту на то, что мир не что иное, как моя же мечта.
И говорил солипсист: «Вне Меня нет бытия, ни возможности бытия. Всякое познание есть тать ко путь ко Мне, только средство самопознания, только исполнение старого мудрого требования: „Познай самого себя“».
Вывод отсюда, конечно, не тот, который делается поверхностным эгоизмом. Поверхностный, хотя и последовательный эгоизм полагает, что все позволено. Солипсист, не видящий в мире ничего, кроме своих же переживаний, к этому разрешению себе всего прибавляет тот неизбежный вывод совести, что ведь зато и ответственность за все, в этом мире совершающееся, лежит на Мне. Эта всеобщая ответственность за грехи мира была ясна Достоевскому. Она же поражала иногда Леонида Андреева. Пример – рассказ «Тьма».
И солипсист говорил: «Если есть в мире грех, то это – Мой грех. Все могу, чего хочу, – и все хочу, что могу. Я одно и то же во всяком человеке, почему и не следует человеку бояться смерти как уничтожения. Смерти как конечного уничтожения нет. Но не следует человеку и надеяться на смерть как на конечное уничтожение. Нет уничтожения, нет забвения, жизнь бесконечна, и потому грехи всего мира на Мне и вечная на Мне казнь».
Последовательный солипсизм приводит, таким образом, душу человека к религиозному слиянию с единою мировою волею, и в себе ощущает человек веяние той великой силы, которая движет миры и сердца.