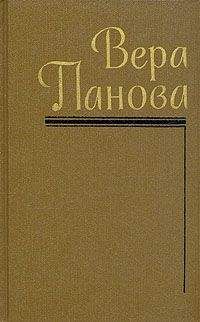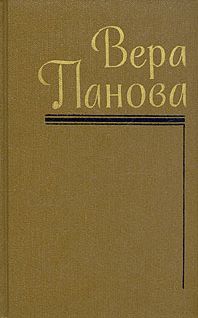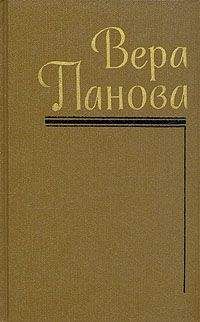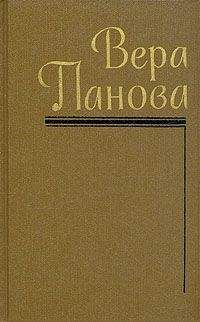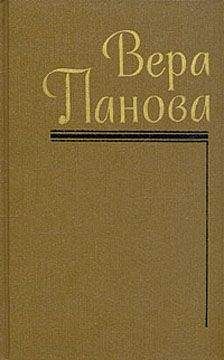Собираясь в Ленинград, я боялась, что мои более чем скромные платья не будут уместны в столь блестящем городе, и заранее стеснялась. Но походив по Ленинграду, убедилась, что тут всяк одет кто во что горазд и что у нас в Ростове тряпкам придают гораздо более значения, чем здесь. И успокоилась.
В общем, мы прожили свой отпуск очень хорошо. А когда вернулись, жизнь потекла так же, как до отпуска: в заботах о семье, в работе, в тихой радости, которой суждено было продлиться так недолго.
Новый, 1935 год мы встречали у Бориса Фатилевича (Борьки Короткого) и его новой жены, молодой актрисы.
Я уже писала, что Боря Фатилевич поставил в своем театре мою пьесу "Весна". Пьесу эту я потеряла, и нисколько не жалею, так как она была совершенно ученическая и подражательная, но спектакль был для меня целой бурей новых переживаний. Когда пошел занавес и я увидела оформление, которым Фатилевич заранее хвастал: черный бархатный задник, на нем вверху звезды, а внизу воздушные очертания цветущих садов, - я как-то вдруг и сразу ощутила, что не все дело в том, что мною написано, дело и в том, что приложили к этому другие люди - вот, например, художник, который придумал этот черный бархат, да и наверняка Фатилевич, а еще ведь актеры! И когда на сцене появилась жена Фатилевича, под гримом прекрасная, какой она никогда не была в обычной жизни, мне показалось, что слабое мое детище эта пьеса подхвачена множеством умелых и добрых рук, которые это детище выходят и вырастят.
С тех пор я не раз видела на сцене свои пьесы и убедилась в том, как много в спектакле зависит от актеров, от режиссера, художника, от музыкального сопровождения, но ведь тогда это было впервые - как первый поцелуй...
Спектакль прошел гораздо лучше, чем я ждала, в зале даже хлопали, но долго на сцене он не удержался - слишком слабенькая была пьеса. Однако я до сих пор благодарна Боре Фатилевичу за то, так сказать, первое приобщение мое к театру. Если я стала драматургом и написала целую книгу пьес и некоторые из них довольно долго продержались на сцене - к этому, несомненно, причастен в какой-то мере и Борис Фатилевич.
Итак, мы встречали Новый год.
Было много актеров, много выпивки и много шума. Мне это все не понравилось настолько, что я с тех пор возымела отвращение к подобным сходкам с непрерывным чоканьем и криком. Но Борис мой был доволен, и слава богу. Больше уж нам ни разу не пришлось вместе бывать где-либо в гостях. И вообще нам оставались считанные дни более или менее спокойной жизни, только мы этого еще не знали...
28
КРАХ
Вечером 1 декабря 1934 года Борис, как это бывало часто, задержался в редакции для приема информации. Я прилегла на кровать, у изголовья которой стояла тумбочка с телефоном. Почти сейчас же в ухо брызнул звонок. Борис сказал: "Вера, в Ленинграде убили Кирова". Я воскликнула: "Это ужасно!"
Но это тривиальное слово и в тысячной доле не выражало моих тогдашних чувств. В голове покатились какие-то туманные, ни с чем не сообразные, я бы сказала, средневековые мысли. Почему-то сразу стало ясно, что с этого момента вся жизнь наша пойдет совершенно иначе.
Помню другой роковой день.
Я выпускала газеты в типографии. Металлический стол, колонки линотипного набора, груды влажных бумажных листов для оттисков, разбросанные верстатки и щетки, придирчивый метранпаж в черной спецовке, все как всегда. И вдруг зовет кто-то из наборщиков (кажется, Харламов):
- Товарищ Панова, вас просят к телефону.
Бегу через длинный наборный цех между линотипов, хватаю трубку. Голос мужа:
- Вера? Ты можешь сейчас же, не откладывая, приехать домой?
Конечно, пугаюсь, конечно, спрашиваю:
- Что случилось?
- Не спрашивай ничего, отвечай: можешь или нет приехать сразу?
Конечно, отвечаю, что могу. Конечно, сердце леденеет сразу от этого короткого разговора, но оно еще не знает правды, оно еще на ложном следу: ему почудилось, что стряслось что-то ужасное с кем-то из детей.
Как бегу по гололедице к трамвайной остановке, как еду в трамвае, как добираюсь до дома, - ничего не вспомнить: мутный сон и холод ужаса. Но вот я дома, в нашей маленькой комнате. Вот мама. У нее лицо спокойное. На мой лихорадочный вопрос:
- Дети? - она отвечает:
- Дети в порядке.
И вот Борис. Лицо потрясенное, губы еле шевелятся:
- Меня уволили по обвинению в троцкизме. По обвинению в том, что я скрыл при проверке партдокументов свою причастность к троцкизму. И сегодня это будут обсуждать на партийном собрании.
Все это свалилось на него внезапно: сидел за своим редакционным столом, работал - вдруг его вызвали к редактору Шаумяну (сын бакинского комиссара Шаумяна, одного из 26-ти), и тот ему все это изложил.
- Наверно, исключат из партии, - сказал Борис.
Я была тогда еще дура набитая. Обе мои первые мысли были дурацкие. Первая, которую я высказала вслух: "Может, еще и не исключат". Вторая, которой я, слава богу, не высказала, была еще глупей: "А все потому, что забыл сказать на том собрании, что в Ленинграде принадлежал к оппозиции". Я не знала тогда, что это ровно ничего не значило - сказал, не сказал, что это поражает равно сказавших и не сказавших, виноватых и безвинных, что это падает на человека, как удар молнии. Ничего я тогда еще не знала, поняла только, что беда подошла вплотную, неминучая, страшная, всем бедам беда.
Борис сказал две вещи:
1) Лишь бы не арестовали, остальное еще туда-сюда.
2) Пойду к Фалькнеру.
Как ни была я глупа, но все же сказала:
- Ничего он тебе не поможет.
Мы смогли тем не менее пообедать, а потом Борис ушел на партсобрание, сказав, что позвонит мне оттуда.
Телефон на тумбочке зазвонил раньше, чем я ждала. И сейчас же в трубке раздался голос:
- Вера? Исключили!!!
Что я могла сказать? Я сказала:
- Иди домой.
А шестого февраля добрейший Полиен Николаевич Яковлев вызвал меня к себе в кабинет и сказал:
- Вера Федоровна, поверьте, мне это очень трудно вам говорить, но нам придется расстаться.
Приказ был вывешен с молниеносной быстротой, и больше я на работу во "Внучата" не ходила. Вместо Яковлева редактором стал Лева Краско вероятно, Яковлева убрали за то, что не сразу уволил меня, жену исключенного из партии. Когда я вернулась домой с известием, что я безработная, Борис сказал:
- Давай подумаем, как сократить наши расходы.
Мы уволили домработницу - без всякого сожаления, так как она была никудышная, и отказались от услуг некоей Флоры Федоровны, дававшей Наташе уроки немецкого языка. Остальные расходы сокращать было невозможно - нужно было есть-пить, как-то одеваться, чинить обувь и т. п.
В следующие дни пришла маленькая надежда - Борис, как намеревался, пошел к Якову Фалькнеру, и, против моего ожидания, Фалькнер захотел ему помочь - он в последнее время сдружился с Борисом и, должно быть, просто не мог видеть в нем врага народа. Фалькнер обещал Борису устроить его на завод "Ростсельмаш".
- Конечно, - сказал Фалькнер, - ваших привычных журналистских заработков там не будет, но прожить можно. (А мы уж ни о чем ином и не мечтали...)
Он сдержал обещание - 11 февраля, это был канун выходного дня, Борис впервые пошел на работу на "Ростсельмаш". Вернулся часов в шесть, перед вечером, веселый, и на мои вопросы ответил, что его поставили работать подручным слесаря, что не боги обжигают горшки, что он очень скоро вполне сживется с этой работой и что все еще, может быть, будет не так уж плохо. Мы пообедали. Это был наш последний обед. Выпили чаю и рано легли спать, так как Борис чувствовал себя все-таки усталым после непривычной работы на станке.
В середине ночи я проснулась от каких-то голосов за дверью и от грохота болта. Прислушалась и поняла, что мама кому-то отворяет, различила голос домовладельца Матвея Карповича и как-то вдруг поняла все. Поняв, спросила:
- Борис, ты слышишь?
- Да, да! - ответил он и сразу сел, и сразу в дверь стали входить люди: Матвей Карпович (они его взяли в понятые) и два незнакомых: военный в буденовке с красной звездой (потом узнала, что его фамилия Анисимов) и штатский в очках (впоследствии узнала и его фамилию - Аппельбаум).
Уж не помню, кто из них предъявил ордер на обыск у гражданина Вахтина Бориса Борисовича, заключив фразой: "с последующим вашим арестом". Обыскали прежде всего нашу комнату (дав мне предварительно встать и одеться), потом мама, бедная мама, повела их в детскую. Конечно, ее расчет был нелеп, разве этих людей мог умилосердить вид троих спящих детишек, но мы все были тогда простаками, не смыслящими ни аза.
Во время обыска я раза два открывала входную дверь, выглядывала во двор: светало, мела метель, крылечко все пуховей, все выше зарастало снегом. Больше всего они провозились с книжным шкафом, каждую книгу брали за корешок и трясли, а потом кидали на пол. Из одной книги выпала пачка облигаций госзаймов, из другой - деньги, полученные мною при увольнении. То и другое нам вернули тотчас же предупредительнейшим образом. Никакого проку от этого обыска явно не было, да они и не добивались его, им нужно было проделать все формальности, прежде чем арестовать человека.