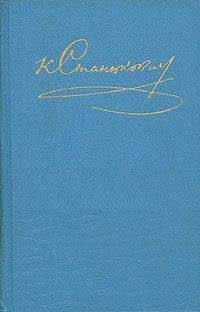Нина молчала.
— Допустим даже, что он и переменил жизнь благодаря твоим благодеяниям и больше не нищенствует и не пьянствует, а ведет добродетельную жизнь вместе со своим питомцем… допустим и это, как ни трудно допустить такую реабилитацию, возможную лишь в плохих романах, но все-таки прежняя жизнь оставила на нем свою грязь, и сколько-нибудь порядочной девушке предосудительно вести с таким человеком знакомство… Так я смотрю и прошу тебя никогда больше не бывать у него… Слышишь?
— Слышу, папа! — проронила молодая девушка.
— Дай мне слово!
— Пока я у вас — даю!
Этот ответ взорвал обыкновенно сдержанного Опольева, и он гневно проговорил:
— Можешь идти, дерзкая девчонка!
XXXV
Это объяснение с дочерью взволновало Опольева.
Он долго не мог успокоиться и быстро и нервно ходил по кабинету, возбужденный, поводя скулами и хрустя по временам белыми, крупными пальцами заложенных за спину рук. Только что сделанное открытие — именно открытие, — что, по всем вероятиям, дочь его заражена теми самыми мнениями, против которых он боролся в качестве официального лица и которые считал вредными, и изумляло, и раздражало, и огорчало его превосходительство…
И как он ничего этого не замечал, как он вовремя не остановил этого недуга, готового охватить и погубить молодой организм? То-то, припоминал он слова жены, она избегает выездов, не любит общества, читает книжки и ей никто не нравится из тех молодых людей, которые у них бывают…
Усталый от ходьбы, он снова присел к столу и долго-долго сидел в кресле в глубокой задумчивости, словно человек, внезапно застигнутый каким-то неразрешимым вопросом.
Наконец, он подавил пуговку звонка и, когда явился лакей, приказал попросить к себе барыню, если у нее никого нет.
И, когда в кабинет пришла Опольева, несколько встревоженная, с красными от слез глазами, муж с какою-то злостью взглянул в это еще красивое, добродушное, полное лицо, точно считая жену виноватой за то, что дочь совсем не та, какою он ее считал, и проговорил:
— Знаешь ли ты, какая у нас Нина?..
— Какая? Она славная, прелестная! — поспешила заступиться мать.
— Славная… прелестная! — передразнил Опольев. — Ты ничего не видишь!.. Она нигилистка…
— Бог с тобой… Что ты говоришь? — испуганно промолвила мать.
— Я говорю то, что есть в действительности… У нее очень опасные мнения… Что ты удивляешься? Ты и не догадывалась? Ты позволяла ей посещать этого пьяницу? Ты отпускаешь ее ради дурацкой филантропии по всяким трущобам… Ты позволяешь ей читать все, что ей вздумается…
— Но, Константин Иванович, она не маленькая…
— Не маленькая, но ты могла бы иметь на нее влияние… А теперь полюбуйся, что вышло? Как она говорила с отцом? Как защищала этого мерзавца, которого я не велел пускать в дом… И как дала слово не ходить к нему… Видно, что против желания.
— И ты, верно, сурово обошелся с ней? Константин Иванович! Не забудь, что Нина у нас одна… Она натура чуткая… Пусть даже и увлекается книгами, пусть даже у нее и крайние мнения, но не озлобляй ее… Не заставь бедную девочку возненавидеть родительский дом! — взволнованно и решительно говорила теперь эта слабая, нерешительная женщина, в которой заговорила мать, отстаивающая свое любимое детище.
Его превосходительство вдруг струсил.
— Но я и не думал сурово обходиться с ней, — промолвил он.
Но Опольева не слушала и продолжала:
— Ты упрям, но и она упряма… Мало ли что может прийти ей в голову?.. Ей может показаться, что ты ее не любишь, и она уйдет от нас… Примеры такие бывали… Вспомни историю у Вяземцевых?.. Дочь их ушла… И, наконец, неужели уж такое преступление бывать у твоего брата, которого ты не можешь простить, а твоя дочь полюбила?..
Но тут уж его превосходительство не выдержал. Едва сдерживая бешенство, он растворил двери кабинета, и госпожа Опольева тотчас же смолкла и догадалась уйти.
С тяжелыми думами сидела и Нина в своей комнате. Отец представлялся теперь в ее глазах совсем другим человеком. Тяжелые обвинения в несправедливости, в жестокости, в нетерпимости к чужим мнениям невольно роились в ее голове, смущая в то же время девушку, и напрасно она старалась найти оправдание для отца. Что-то непонятно жестокое и злопамятное чувствовалось в этих нападках на брата… А это издевательство над ее словами, полное насмешливой злости?
Нина сидела грустная, и вся ее жизнь, которую вела она, казалась ей какою-то пустою, бесцельною, ни для кого не нужною. К чему и зачем вся эта роскошь, которою она окружена и которая ее нисколько не делает счастливою?
И она завидовала в эти минуты тем трудящимся интеллигентным девушкам, у которых есть цель в жизни, которые работают и ни от кого не зависят. Как бы она была счастлива, если б и она могла так жить!
А теперь? Какая это жизнь?
Она может ездить на балы, в театры, тратить безумные деньги на наряды и в то же время не смеет навестить этого несчастного старика дядю, только потому, что он в глазах отца и общества отверженец.
«Нет, так жить нельзя!» — думала молодая девушка.
XXXVI
Прошло три года с небольшим.
За это время Антошка блистательно окончил курс технической школы при одном большом заводе на Васильевском Острове и поступил учеником на тот же завод в механическую мастерскую.
Талантливость и способности Антошки, его необыкновенная сметливость и какая-то лихорадочная жадность к занятиям обратили на себя внимание заведующего школой, старого идеалиста шестидесятых годов, преданного своей школе, которой он заведовал пятнадцать лет и которую поставил на надлежащую высоту, умея внушить к себе любовь и уважение учеников, по большей части детей заводских рабочих.
Антошка сделался его любимцем, и учитель предложил своему способному ученику приходить к нему по вечерам, после окончания работ на заводе, для специальных занятий по механике, к которой Антошка обнаруживал особенную склонность. Еще бывши в школе, он интересовался чертежами машин, часто бегал после занятий в механическую мастерскую, где отделывались части громадных механизмов для кораблей, и там жадно смотрел на эти цилиндры, золотники и холодильники, старался проникнуть в тайны их устройства. Уж он смастерил для «графа» особенный замок и палку с выскакивающим из нее прибором для рыбной ловли, а для Нины — стальной бювар с ее монограммой, с календарем и застежками замысловатого, им придуманного устройства и выказал в этих работах много вкуса и механического остроумия.
«Граф», гордившийся успехами Антошки гораздо более, чем сам юный изобретатель, был в восторге от его подарков, находил, что лучше таких вещей он не видал на своем веку, и не без торжественности объявил, что Антошка впоследствии будет знаменитым механиком…
— Того и гляди когда-нибудь и портрет твой, Антоша, в иллюстрациях появится… Выдумаешь какую-нибудь новую машину… и станешь известным.
Антошка, однако, довольно скептически относился к похвалам «графа», зная, что он, несмотря на свой ум и обширные познания в других областях, решительно ничего не смыслит в механическом деле.
Нечего и говорить, что он с благодарностью принял предложение заведующего школой и ходил к нему на квартиру при заводе каждый вечер, с жадностью слушая его лекции. В год он прошел таким образом краткий курс механики, познакомившись с ее принципами, насколько это было возможно без знания высшей математики.
И заведующий школой, маленький, круглый, толстенький человечек с добрыми глазами и длинными седоватыми волосами, придававшими ему литературный вид, однажды с особенною горячностью просил директора завода обратить на Антона Щигрова особое внимание.
Он рассказал его историю, рассказал, как прекрасно занимался он у него, и расхваливал его талантливость.
— Из этого юноши вышел бы выдающийся математик и механик, если бы только он имел возможность получить высшее образование… Но куда ему об этом и думать, бедняге? Во всяком случае, благодаря его замечательным способностям завод будет иметь в нем недюжинного мастера…
Директор завода, образованный и сам очень талантливый человек, особенно заботившийся, чтобы у него на заводе были хорошие русские мастера, заинтересовался Щигровым, которого помнил по бойким ответам на экзамене, и обещал не забыть его.
— Только не увлекаетесь ли вы, Петр Федорович? — улыбнулся директор, обращаясь к учителю.
— А вы потрудитесь спросить о Щигрове начальника мастерской… Да вот и Арнольд Оскарыч сам… Легок на помине.
На внезапный вопрос об Антоне Щигрове начальник мастерской Арнольд Оскарович Вундстрем, аккуратный, требовательный, справедливый и несколько ограниченный финляндец пожилых лет в форме инженер-механика, небольшого роста блондин с серьезным лицом, в выражении которого было что-то честное, правдивое и в то же время жестковатое, первым делом несколько ошалел от этого вопроса, так как он к нему не был приготовлен и пришел в этот кабинет, занятый другими делами, требующими разрешения директора.