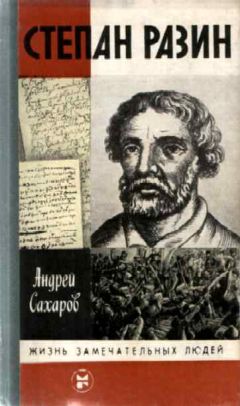Смотрю я на тех людей, с ужасом и тоскою смотрю (очень мне жаль их, как они, бедные, в этом жару мучатся) — и думаю, как бы и мне не сгореть вместе с ними; а там уж и не помню, как выпала сетка из рук моих, — упал я горячей головой на холодеющий под сараем навоз, и несчетное будто бы множество голубей и всяких птиц, одна другой краше и цветистее, налетели на меня, всего меня собою завалили, и такой холодок отрадный и щекотливый крыльями своими навевали они на меня, что сердце мое ровно в небе плавало, и давал я в бреду тем птицам обещанье с божбой — никогда не ловить их, а они будто не верили мне и стращали богу сейчас жаловаться на меня лететь…
Замер я так-то в беспамятстве своем и до слез жалею о том, что птицы не верят мне и что накажет меня за них господь бог, ежели я не упрошу их с жалобой своей к нему не лететь…
— Не летайте, не летайте, — умаливаю я безжалостных птиц. — Сказал — никогда не буду ловить вас, — ну и не буду… — А они налетели на меня еще более сплошной тучей, уставились прямо в глаза мне своими светлыми, маленькими глазками и с такой-то угрозой пугающей все в один голос мне говорят: «Нет! Не умолишь ты нас. Молодец был ты сети на нас плесть, теперь вот посмотришь, как тебя за нас в аду самого сетью будут ловить. Небось! К той еще похитрей палочку-то приделают — и будет тебя палочка та в голову колотить…»
Вдруг будто бы подо мною расселась земля. Стремглав лечу я в эту расселину, и обдает меня из нее дымом и пламенем серным. Во всей этой пропасти, где я очутился, горел будто бы, как в печи, неугасимый огонь, а в огне летали крылатые дьяволы, точь-в-точь какими их на картинках пишут, и всего меня насквозь прожег огонь этот, а дьяволы, как только увидали меня, все закричали: «Попался ты к нам. Вот мы тебя сейчас проберем. Будешь ты голубей ловить! Давай сюда сковороду, да погорячей, — пусть-ка он попробует, как у нас голубятину жарят…»
Вырваться стараюсь из пропасти, а тут уж сковороду притащили всю красную, и начал один чертеныш голову мне к такой сковороде нагибать, чтобы я лизал ее. Вцепился он в меня острыми когтями и гнет, а сковорода мне губы палит, только вырвался я будто и побежал: «Держи, держи, — заорала нечистая сила. — Голуби! Держите его!» — и неоглядной станицей бросились за мной голуби и всего меня запутали они волосяными сетями и потащили назад, а палочки, какие я приделывать к сетям ухитрился, так-то больно по голове меня колотили…
«Ну, не уйдешь теперь!» — и голуби и нечистые в один голос шумят, и от шума того затряслись стены пропасти и заколыхался, словно живой, огонь, который горел в ней…
Застонал я от ужаса и проснулся. Проснулся, трясусь весь и вижу, что жар уже немного поспал. Куры по двору заходили, воробьи под сараями кое-где зачирикали. Видно, что все это хочет проснуться и не проснется никак, потому очень тяжелый сон наводит жар на мир божий и долго после того сна стоит тишина и даже словно бы мука какая-то на лице земли-матери примечается…
И теперь так было: задумываюсь я о своем сне, а вокруг меня словно вымерло все. Из самого дальнего угла огорода, где росли разноцветные розы, слышно было, как пчелки звенели и как зеленая саранча шуршала крыльями своими стеклянными.
Чутко ухо ребячье! Помню, заслушался я чего-то в это время и задумался о чем-то глубоко, так что и о сне своем страшном думать почти перестал, — только вдруг молчанье наше — и мое и божье — голос какой-то разрезал, да такой голос унылый и болеющий, об такой скорби и истоме душевной сказал он, что вдруг меня холод по всему телу прошиб.
Волосы у меня на голове поднялись и глаза выскочить хотели, как этот голос на весь посад выводил: о-ох-ох, — протянет и вздохнет под конец, так что и вздох-то самый я слышал.
Видно было, что крепкая грудь у кого-нибудь сокрушалась.
Крещусь я так-то и думаю: «Господи! Что же это такое? Кто это вздыхает так больно?» — а сам с места тронуться не могу — перепугался очень.
Смотрю: в подворотню нашу приятель мой Мишутка Кочеток лезет. Пролез это он в подворотню и на одной ножке ко мне и подпрыгивает. (Молодец он был на одной ножке прыгать, — дальше Мишутки никто из мальчишек не прыгивал.)
— Что ты, — кричит он мне издали, — сидишь тут? Дворник Липат Семенов умирать собрался, побежим смотреть.
— О-о-ох! Смерть моя! — снова прокатилось по двору.
— Вишь вот кричит как, — сказывает Мишутка. — Маменька сейчас говорила мне, что Липатка-то колдун, вот он с душой-то своей и не может проститься…
Побежали мы с Мишуткой на постоялый двор смотреть, как дяденька Липат Семеныч умирает. Приходим — видимо-невидимо народу в избе, и весь этот народ молча стоит, так что слышно было, как мухи жужжали и толстыми туловищами об грязные оконницы бились. Стоит народ и ужасается лютой смерти грешника. Белый, как полотно, лежит Липат в переднем углу, под образами, — сухое и тощее лицо у него сделалось, а смертные судороги так-то сурово сдвинули ему густые брови; но еще суровее и мрачнее глядели на унылую избу святые иконы, ярко освещенные лампадками и восковыми свечами.
Приютились мы с Мишуткой в углу и смотрим.
— Умрет? — спрашивал меня шепотом Мишутка.
— Умрет непременно, — говорю я. — Посматривай, Миша, как из него душа вылетать станет. Сказывали: голубем белым вылетает она из человеческого тела.
— У меня небось мимо не пролетит, — говорит Мишутка. — Я подкараулю… Только ты это верно сказываешь: дедушка мой когда умирал, так я сам видел, как из него душа голубем улетела… И теперь еще голубь-то этот у нас под крышкой живет. Мы того голубя так дедушкой и зовем.
И не одни наши с Мишуткой толки в это время по избе ходили. Советников и советниц всяких, как это живому еще человеку на вечный покой поудобнее отойти, много тут разных стояло.
— Липат Семеныч! — бабочка одна — и в летах уж эта бабочка довольно-таки престарелых была — умирающему самым слезным образом стонет: — ты бы родненьких-то своих благословил, прощальное бы слово свое родительское сказал им…
— Ох, отойди ты от меня! Без тебя тошно, баба, — через силу отзывается Липат.
— Нечего тут об земном толковать, — с угрозой говорит мещанин Кибитка (на крылосе он всегда первого баса держал):- к небесному ум свой при последнем конце направлять следует. Кайся, Липат Семеныч, при всех православных, кого ты когда и чем обижал, вслух; а ежели вслух совесть зазрит, в душе кайся, — это все единственно…
— Ох! Много я народу на своем веку изобидел, дорогие мои! Всего теперича не упомнишь, — болезнь великая душу мою гнетет, — говорит больной.
— Нечего, нечего тут стоять, господа! Не до вас теперь, — вступается брат Липата. (Из Коломны он нарочно приехал, как только про болезнь братнюю ему написали.) — Уходите, православные.
— Истинно, истинно уходить пора, — доканчивает Кибитка. — Во всяком дому своему горю подобает быти. Всякому своя возня и обуза…
Никто, однакож, не уходил, только немного потоптались на месте и остались опять слушать последние стоны и смотреть на последние движения умирающего тела.
— Брат! Позови Ванюшку сюда, — слышим мы, говорит Липат. — Чую: близок конец мой! Надо ему в самом деле мне наставленье дать.
Привели Ванюшку. Все семейство стало около лавки умирающего большака и ожидало, что скажет сиротам своим мудрость его житейская.
— Прощайте, други мои, — начал старик. — Грехов и всяких злых дел много я на своем веку сделал. Для вашего блага я делал их, все о вашем счастье заботился, так вы помните это и молитесь за мою грешную душу. Может, бог и простит меня по вашим молитвам. Вот я вас сиротами оставляю малолетными, так вы дядю слушайтесь, пока сами неразумны; а ты призри их, братец, христа-ради. Видишь сам, какие они у меня: мал мала меньше. Призришь? Побожись мне в этом на святые иконы!
— Призрю, — отвечает коломенский брат. — Покарай меня царица небесная, — все равно как за своими родными детьми буду глядеть за ними. Анафема-проклят буду, ежели дам их злым людям в обиду, — завершает он, делая пред образами земные поклоны.
— Смотрите вы у меня, мелюзга, — продолжал больной: — старшего брата, как меня, слушайтесь. Не то счастья вам у бога не вымолю, а ты, Ванюшка, люби их, оберегай, — ты ведь теперь набольшим в доме останешься. Будешь?
— Буду, тятенька, — отвечает сквозь слезы Ванюшка, тот самый Иван Липатыч, о котором я вам в прошлый раз сказывал.
— Побожись, Ваня, что точно меньших братьев своих и сестру обижать ты не станешь?
И Ваня тоже трижды три земных поклона совершил пред ликами божьими и тоже на голову свою молодую кару царицы небесной призвал, ежели обещанья, данного отцу на смертной постели, он не исполнит.
— Вот смотрите, христиане благочестивые, при всех — при вас говорю, — обратился Липат к стоящим соседям. — Детям моим капиталу моего двадцать тысяч на ассигнации оставляю, на храмы господни три тысячи, тысячу служителям церковным за помин моей души окаянной. Ванюшка! Принеси из-под кровати сундучок мой. Видишь, Ваня, сколько тут денег? Ты и руководствуй ими, без обиды руководствуй, потому ты теперь старшой в доме. Брат! Смотри же: не оставь на поруганье своего рода.