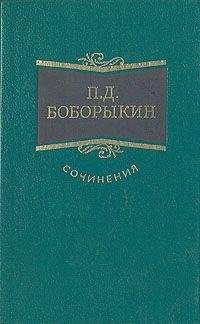— Как же вы так выдаете своих собратов? — сказала я.
— Я прежде всего совсем не хочу принадлежать к сочинительскому цеху.
— Почему же так?
— А потому, что он оплеван, не нами-с, а теми, кто после нас пришел. Я ведь уж старик.
Я все-таки хотела поймать его и сказала:
— Вы так хорошо знаете свет и так критикуете его, что я, право, удивляюсь: какое удовольствие можете вы находить на балах, где мы пляшем, у разных таких подурух, как княгиня Клеопатра Антоновна?
"На, мол, тебе, раскуси это". Он, однако, нашелся.
— В том-то и дело, — ответил он, несколько прикусивши верхнюю губу, — что я бываю в свете вовсе не в качестве литератора. Разве только на четвергах у Анны Петровны мне приходится быть в этом качестве. Если меня принимают, находят, что я не совсем скучен, не совсем глуп — это все общечеловеческие свойства. Так ли-с? В нашем петербургском свете, вы сами знаете, много смешного, даже уродливого… Если вы позволите мне сказать правду, подчас нет и простой грамотности. Но все это в разницу, вразбивку! Так никакого общества нельзя третировать. Il faut prendre l'ensemble.[69] Я уверен, что и вы не раз говаривали себе: ах, как скучно в наших салонах, как пошлы мужчины, как несносны барыни, просто некуда деваться. Такие иеремиады, раздаются, правда, больше к весне, когда действительно Петербург становится хуже города Тетюш.
— Ну, — прервала я его, — я и с осени начинаю иногда эти иеремиады!
— Можно и с осени. Но попробуйте-ка запереться у себя вот, на Английском проспекте, посидите вы неделю, две, а потом не то что к княгине Татьяне Глебовне кинетесь как на какой-нибудь оазис, на первый soirée causante[70] средней руки, где разговором заправляет турецкий атташе — эфенди! Да-с, будьте благонадежны! В целом наш петербургский свет, как и всякое высшее общество, никак не хуже. На мой взгляд, даже гораздо занимательнее лондонских салонов, где скука стоит, как столб пыли, несравненно приличнее шикарных парижских гостиных, где говорятся иногда такие вещи вслух… Позволь я себе одну сотую некоторых французских blagues,[71] вы бы приказали вашему служителю препроводить меня до передней. Уж о каких-нибудь дрезденских, мюнхенских, штутгартских салонах я и не говорю. Русский человек, как бы он ни был кроток по душе своей, не может не третировать самых аристократических немецких князей и барынь иначе, как сапожника Шульца и экономку Кунигунду Ивановну. За это карать нас не следует. Немцы нация кнотов. Вы, может быть, не изволите знать значение этого слова? Кнот на студенческом немецком языке значит пошляк, сапожник. У нас есть отличное, подходящее слово, только оно не совсем хорошо пахнет: холуй! То, чем студенты в Гейдельберге и в Бонне обзывают всех бюргеров, то мы имеем полнейшее право применить ко всем немцам, без исключения. Стало быть, Марья Михайловна (он меня в первый раз назвал русским именем), нужно уметь наслаждаться настоящею жизнью. Кисло-сладкими фразами ничего не сделаешь. В таком светском обществе, как наше петербургское, еще можно жить; разумеется, умеючи. Я лично нахожу в нем оригинальные и крупные характеры, есть даже между генералами люди поумнее, может быть, всего "живорыбного садка" старушки Татьяны Глебовны. Наконец… виноват, я хотел сказать прежде всего: целый мир прекрасных женщин. Во мне говорит не селадон, а человек, который любит все живое, все, что принимает оригинальную или изящную форму. Я тут не умничаю, — поправился он. — Это все так просто, как картинки в азбуках: аз — ананас, буки — бык, веди — волк. Вы не можете обойтись без петербургского света? А чем же я лучше вас? Тем, что книжки сочиняю? Так ведь об этом смешно и вспоминать. Я делаю книги, как сапожник делает башмаки. Да к тому же я лет пять ничего не пишу. Вы, пожалуй, можете сказать, что всякий человек должен искать людей своей профессии? Но к своим перам-то, к своей братии я и не пойду. Отчего? — спросите вы. Это длинная и скучная история. Я об ней, признаюсь, говорю иногда с наружным смехом, но почти с внутренними слезами. Может быть, "во едину от суббот" мы дойдем с вами и до этого сюжета. Нынче ведь и в салонах говорят о литературной bohиme,[72] о нигилистах и т. д., и т. д. Мои же сверстники, мои собраты все теперь разбрелись по белу свету и по Елисейским Полям: один в Испании, другой в дебрях… там где-то на Ветлуге, третий в Бадене, четвертый отправился к прародителям. Да кто и здесь в Петербурге, не сразу отыщешь. Есть кой-кто в генеральских чинах, заведовают разными контрольными и хозяйственными департаментами. Я с ними раз в полгодика иногда пообедаю. Ну, разбередишь немного солидность его превосходительства, начнет и он рваться на Парнас, вспомнит, как мы в сороковых годах ни больше ни меньше как составляли всю российскую словесность. Мы только и работали. Значит, перов не хватает, а я, грешный человек, люблю на миру жить.
— Merci,[73] - сказала я, — вы мне это очень хорошо объяснили. Простите за нескромность.
В самом деле мне стало совестно.
— Полноте, — ответил он с умной и хорошей улыбкой. — Правда, вы меня заставили говорить о себе. Я этого не жалую, и не к тому я вел речь. В свете было бы очень приятно жить многим, особенно женщинам молодым и… (он помолчал) свободным, как вы, например. Вы когда-нибудь читали Ревизора…
— Гоголя?
Я спросила и покраснела.
— Да, Гоголя.
Он повторил это так просто, что я преисполнилась благодарности.
— Ну, так в этом самом Ревизоре, Иван Александрович Хлестаков говорит, что он "любит срывать цветы удовольствия". Но знаете ли, что срывать их умно и разнообразно — очень нелегкая вещь.
— Так поучите меня…
Он прищурился и помолчал.
— Из вас вышла бы препонятливая ученица.
— Но что же нужно делать? — заторопилась я.
— Очень простую вещь. Тратить свою красоту, молодость и ум так, чтобы "и волки были сыты, и овцы целы". Жить с прохладцей и, — протянул он, — ничего не бояться.
Он скоро-скоро поднялся.
— Виноват, я вас заболтал совсем…
Что это за человек? Дурной или хороший? Умен удивительно. Il a le don d'asseoir vos idées.[74] Поговоривши с ним, как-то успокоиваешься и миришься с жизнью. У меня даже голова прошла, и я вспомнила все его умные слова. Я бы никогда не сумела сказать по-русски того, что я записала.
И какой у него такт! Я уверена, что он меня узнал в маскараде и хоть бы слово. Всякий другой из наших mioches[75] начал бы ухмыляться и делать разные глупые намеки.
Вот две личности: Домбрович и Clémence. Конечно, уж позанимательнее очень и очень многих. Clémence сказала про него, что он: "bien au-dessus de ces petits crevés".[76] Это еще невеликая похвала… Я, признаюсь, ни в одной петербургской гостиной не встречала никого приятнее и умнее его.
С ним я могу встречаться. Ну, a Clémence?
Экие глупости я спрашиваю! Кто же она в сущности?.. Une fille publique![77] И больше ничего. Как бы она там ни была… séduisante,[78] что же может быть гаже ее жизни?
Правда, знаю я кой-каких барынь. Немногим уступят Clémence, да все-таки не каждому же продают они себя за триста рублей.
Голова у меня прошла, но надо же лечь спать. Если я по стольку буду все писать, я сделаюсь, пожалуй, сочинительшей.
17 декабря 186*
3 часа ночи. — Суббота
Как жалко! Степа пишет, что его задержало что-то… на какой-то съезд отправился в Бельгию. Раньше февраля не будет. "А то, прибавляет, не лучше ли уж к весне, чем в распутицу отправляться в деревенские края". Вот я бы его познакомила с Домбровичем. Он, правда, не в таком вкусе, но им бы, по крайней мере, не было скучно у меня.
Прислал мне свою карточку. Я его всегда называю моськой; а он не так уж дурен. Но чего я ему простить не могу, этому физикусу, — это то, что он за мной никогда не приударял, хоть бы немножко. Спрошу я об нем у Домбровича. Как он насчет его сочинений? Наверно, читал же. Может быть, и встречались где-нибудь.
Вот если бы Степа приехал поскорее, эта зима могла бы пройти очень весело. В свет его, конечно, не затащишь. Он будет так же браниться, как и прежде, но я бы его к Плавиковой. Устроила бы себе там свой маленький двор. А в отдалении пускай себе разные Гелиотроповы отирают свои лбы и сапят. Ça aurait du piquant.[79] У себя бы назначила день. Для Степы выбрала бы из барынь кто поумнее. После танцев и всякого пустейшего вранья я хоть бы немножко освежалась.
Вот и можно было бы сделать так, как говорит Домбрович, чтобы и "волки были сыты, и овцы целы".
Я долго думала о его словах. В самом деле, куда я денусь, если не стану ездить в свет? Володька мой — клоп; зачем ему мои попечения? Есть у него нянька, купают его, кормят, проваживают, дают игрушек, чего же ему больше? Если бы я сидела целый день над ним, дело бы пошло в мильон раз хуже. Я нетерпелива… je lui aurais flanque des gifles!..[80] Он меня издали и то раздражает своим ревом. Говорить ему еще не стоит: он ничего не понимает; сам тоже пока безмолвствует, когда не ревет… выучил всего одно английское слово от своей няньки: spun![81]