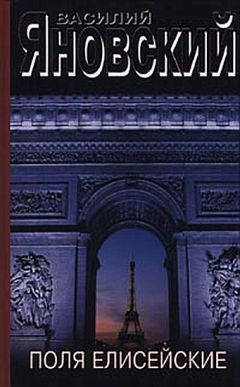Некий полумеценат и полудатчанин, знакомый Фельзена, прикатил в Париж с молоденькой и стопроцентной розововолосой датчанкой. Спор разгорелся оттого, что меценат, нагрузившись, пожелал наконец увезти эту девицу в отель. Но вышеупомянутый капитан и его друг Куба реши-ли, что нельзя отпустить такую прелестную блондинку, вдобавок сильно выпившую, одну с этим полупавианом!
- Подумайте, - посмеивался Фельзен, неохотно ковыряя вилкою в остатках русской селедки. - Подумайте, ведь он ее привез из Копенгагена, они живут в одном номере... Ну не чушь ли это!
У него было особенно развито чувство уважения к "правилам игры". Regles du jeu, Rules of the game*, ему представлялись автономными ценностями: нарушение этих законов приводит к сплошному безобразию!
* Правила игры (франц.; англ.).
На Монпарнасе сплошь и рядом возникали критические положения. Часто надо было кого-то "спасать", выкупать, примирять. То Иванов попался на "трансакции" с Буровым, то Оцуп угрожа-ет пощечиною Ходасевичу, то Червинская разбила несколько чашек и блюдец в "Доме"... Чтобы урезонить Лиду Червинскую, иногда требовалось выяснить все отношения, на что после полуно-чи были способны только люди с железным здоровьем.
Так, раз я наткнулся на Фельзена в темном проулке возле "Монокля" или "Сфинкса": он тащил за руку упирающуюся поэтессу и, узнав меня, присел на завалинке... С трудом перевел дыхание, затем спокойно, ожесточенно сказал:
- Я больше не могу! Я решительно больше не могу! - и, не дожидаясь ответа, скрылся в тени, словно унесенный предутренним вихрем.
Помню, как, зайдя в "Дом" по личным делам, я вдруг наткнулся на сцену, которую нетрудно было сразу оценить по достоинству: груда посуды на полу, гарсоны в угрожающих позах, а высо-кая, сутулая Червинская, похожая на Грету Гарбо, стоит у пустого столика, точно дожидаясь приговора.
Заикаясь, я немедленно объяснил, что это все очень легко уладить. Без денег такой поступок с моей стороны граничил с геройством. К счастью, Куба, прятавшийся где-то сзади и виновник припадка Лиды, подскочил и вручил нам требуемые франки.
О русском Монпарнасе слагались легенды. На самом деле жизнь там протекала на редкость пристойно и даже скучно, если не считать основного развлечения: страстные, вдохновенные беседы.
Обычно литераторы просиживали до последнего метро за одной чашкой кофе. Иногда, пропустив последний поезд, шли в "Доминик". Там нас встречал коренастый Павел Тутковский, с которым я объяснялся отчасти по-латыни, используя все знакомые пословицы. Тутковский, юрист старой русской школы, знал и любил латынь.
- Вита ностра бревис эст!* - скажешь ему для начала.
- Бреви финиатур,** - охотно поддержит он. - Прикажете той самой?
* Наша жизнь коротка (лат.).
** Вскоре закончится (лат.).
Люди с деньгами заказывали водку. Смоленскому случалось выпивать за счет дам. Но даже при средствах неловко было напиваться, если рядом сидит голодная душа, а такие у нас бывали. Нагружались систематически только слабые и безобразники да кое-кто из дам.
Милейшая Марья Ивановна, жена Ставрова, любила повторять:
- Вот говорят, что на Монпарнасе происходят оргии, - тут она презабавно кривлялась, подражая воображаемым сплетникам. - Ну, переспят друг с другом, подумаешь, оргии!
И действительно, ничего противоестественного на Монпарнасе не происходило, жизнь протекала на редкость размеренная и высоконравственная, по местным понятиям.
Чтобы прожить, надо было как-то работать... А писать! Тоже каторжный труд, особенно прозу. Некоторые еще бегали в Сорбонну.
- Я не знаю, когда я пишу стихи, - брезгливо морщил свое лицо утопленника Иванов. - Я их пишу, когда моюсь, бреюсь... Я не знаю, когда я пишу стихи.
Увы, прозаики знали, что для этого требуется определенное место и время; страдали от ненормальных условий.
Обычно Фельзен с дамой приходил на Монпарнас попозднее, они где-то обедали с водкой и чувствовали себя отлично.
- Вы до или после? - шутливо осведомлялся я.
Они отвечали, посмеиваясь:
- После, после.
Кругом разговор о разбойнике на кресте, о Блоке, перемежался очередной литературной сплетней; за соседним столом разместились бриджеры и просят не мешать.
- Почему вы даму не взяли? - желчно осведомляется Ходасевич.
- А чем ее возьмешь, пальцем, что ли? - голос Яновского.
Адамович торопится между двумя сдачами рассказать про свой недавний сон... Играет будто бы в бридж против Милочки и Романа Николаевича, раскрывает карты, а там одна сплошная масть со всеми онерами! Сердце стучит, как перед большим шлемом, но вдруг он замечает, что масть эта совершенно незнакомая, зеленого цвета, и неизвестно, какую следует назначить игру...
- Ха-ха-ха, ну давайте играть, - нервничает Ходасевич.
То, что эти славнейшие эмигрантские критики сидят рядом за мирной партией в бридж, следует рассматривать как некое чудо. И совершил это чудо Фельзен: он свел обоих врагов!
Причин для исконной вражды было много: метафизических и практических... Разные литера-турные школы, разные биографии, разные темпераменты, вкусы.
На основе своих теоретических размышлений Адамович должен был бы установить очень почтенную иерархию ценностей: самое главное, скажем, евангельская любовь, затем философия или наука, потом игра, секс, наконец, искусство - на последнем месте... Скромное занятие и совсем не позорное. Но, увы, тут начинался парадокс. Как только человек, созвучный этим настроениям, посвящал себя "творчеству", он сразу пускался в погоню за "самым главным", "на последней глубине", переворачивая всю пирамиду ценностей вверх ногами, доказывая единым существом своим, что именно искусство есть самое важное в жизни: ему-то суждено все преобразить, все объяснить, спасти! Иначе не стоит вообще этим заниматься.
Вот на такого рода противоречия, если не ошибаюсь, пытался обратить наше внимание Хода-севич. Логика его укладывалась целиком между Аристотелем и Ньютоном.
Кроме философских расхождений были, конечно, и вульгарно-обывательские поводы к расп-ре. Адамович вел критический отдел в лучшей и более приличной газете; Ходасевич, разумеется, не удовлетворял общество возрожденческих сотрудников, за малым исключением. А обе газеты конкурировали, и участники вступали в групповые полемики.
Ходасевич в конце концов мог простить Адамовичу, что тот перехвалил Шаршуна: пусть его тешится. Но панегирик Иванову - это возмутительно! Иванов, по мысли Ходасевича, вышел из Фета (и не лучшего Фета). Кроме того, именно Георгий Иванов по своим нравственным особенно-стям опровергает всю эстетику Адамовича "что бы Толстой сказал..?" С своей стороны Жорж Иванов тоже не дремал и шептал, шептал, шептал на ухо другу...
Ходасевич, одно время совершенно изолированный, отгребался как умел и даже пустил остроумную сплетню о богатой старушке, убитой в Петрограде. Это вконец взбесило капризного Адамовича... Но годы и такт Фельзена сделали свое дело; ко времени Народного Фронта оба зоила начали дружески общаться на Монпарнасе - отчего мы все только выиграли.
По утрам, встречаясь с Фельзеном, в кафе, до открытия выставки, мы пили неизменное какао; он закуривал свою голуаз жон ("из приличных сигарет это самая дешевая") и медленно отпивал горячую бурду. Поглядывая на прохожих, обстоятельно рассказывал последние новости... Вчера, по дороге домой, он еще забежал в "Мюра", где сражались в бридж "профессионалы"; не успел он подсесть к Ходасевичу, как в подвал спустился Оцуп и начал хамить, даже полез драться, так что пришлось вмешаться. Ходасевич в последней статье написал, что Оцуп занимается делячеством и живет с "Чисел".
- Как ни странно, Оцуп, по-видимому, ожидал, что мы поддержим его, задумчиво улыбаясь и внимательно взглядывая на севших неподалеку парижан, продолжал Фельзен. - Что значит выбыть из строя! Он потерял контакт с действительностью.
О том, что случилось вчера в "Мюра", я мог узнать от десятка свидетелей. Но последнее замечание, что Оцуп рассчитывал на нашу благодарность и помощь, - это было типичным образ-цом фельзенизма. Вся его литература держалась на "психологизме"; высшей ценности он еще, кажется, не знал и в этом был верен себе. Он и Лермонтова так любил, потому что видел здесь начало русского психологического романа.
Но гораздо забавнее было слушать Фельзена, когда он делился впечатлениями прошлого. Повествования такого порядка жили в нем как некая автономная реальность: я чувствовал это тогда не меньше, чем теперь, и все еще не понимаю, в чем их подлинная ценность. Что таковая имеется, я уверен.
- Она мне давно нравилась, - мог начать Фельзен. - Мы изредка встречались у общих знакомых, ее муж разъезжал по торговым делам, и она часто приходила одна. Раз прощаясь, я сказал: "Выслушайте и не сердитесь, пожалуйста. Уже поздно, дома вас сейчас никто не ждет, что, если бы мы провели остаток ночи вместе?.." И она без всяких ужимок согласилась. Очень мило, но у подъезда вдруг передумала. "Нет, неловко! В той же квартире, нехорошо как-то. Да и соседи могут заметить". - Это бывает, объясняет Фельзен, - но я знал такой отель невдалеке. Кликнул такси, поехали. Только что заняли номер, она опять заметалась, чуть ли не плачет: в первый раз на такое решилась... Ну что это такое? Даме за тридцать, надо знать чего хочешь. Тут я ее в сердцах ударил, - рассказывал Фельзен. - И представьте себе, она сразу успокоилась. Все сошло отличней-шим образом. Потом она мне сама признавалась, что я был совершенно прав. И у нас установи-лись прекраснейшие отношения.