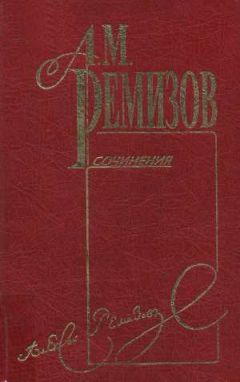Как и в «Мышкиной дудочке», в «Петербургском буераке» Ремизов предстает свидетелем истории, на сей раз в первую очередь – свидетелем истории русской культуры, который одновременно констатирует фактический конец ее петербургского периода, и в то же время переход достигнутых ею свершений в общемировой культурный фонд.
Композиции «Мышкиной дудочки» и «Петербургского буерака» при всем видовом разнообразии обоих произведений сходны одной существенной чертой. И в первой, и во второй книгах к середине произведения развитие действия доходит до кульминации, являющейся одновременно как бы тупиковой развязкой сюжета. С отъездом Ремизова его петербургская литературная карьера окончилась, завершилась и история «статуэтки» – эпохи Серебряного века. Но в «Петербургском буераке», как и в «Мышкиной дудочке», это – лишь ложная развязка, после которой следует еще много сюжетных поворотов. Эпоха умерла, но она продолжает жить, так как живет созданное ею искусство. Перефразируя «Балаганчик» А. Блока, эпоха истекает кровью, но последняя оборачивается и клюквенным соком.
Значительное место в последней книге Ремизова занимает всестороннее раскрытие игрового начала эпохи Серебряного века. Оно всеобъемлюще и многообразно. Это и «жизнетворчество», и тот взлет театральности, не только свидетелем, но и непосредственным участником которого был Ремизов. Перед читателем «Петербургского буерака» предстают многие блистательные корифеи драмы, балета, оперы, симфонической музыки Коммиссаржевская, Мейерхольд, Евреинов, Шаляпин, Фокин, Лядов… Список имен, которые поминает Ремизов, почти бесконечен. При этом различные действа «петербургской русалии» изображены как база, как корни чудесного дерева, которое расцветает и распространяется по миру, выйдя за рамки не только Петербурга, но и России. Тем самым казалось бы исчезнувшее сохраняется, так как оно воплощается в продолжающемся процессе творчества. В этом плане для Ремизова идеальной моделью петербургского волшебства предстает русский балет, чье победное шествие по миру началось еще в период Серебряного века в облике парижских Русских сезонов Дягилева. Фокин – Нижинский – Лифарь – русский «пляшущий демон» продолжает чаровать мир.
«Обрывышки» статей, некрологов, мемуарных очерков, перемежаемые то «интермедией», то «литией»… Весь этот комплекс текстов малых форм на первый взгляд кажется хаотической и пестрой мозаикой, россыпью блестящих самоцветов, которые Ремизов как бы перебирает в руках, не зная на чем остановиться. Характерно, что их состав меняется в разных вариантах книги. Этот кажущийся «шурум-бурум» составлен из имен русских писателей и деятелей культуры близких Ремизову, как А. Блок и Вас. Розанов, или далеких, как Л. Толстой и А. Чехов, из имен людей, знаменитых в русской истории, как П. Милюков и М. Терещенко, или забытых и воскрешаемых писателем, как Л. Добронравов или Я. Гребенщиков.
Несомненно, что на форму последнего произведения Ремизова оказала влияние парадоксальная по форме книга В. Розанова «Опавшие листья», представляющая собой как бы хаос мелочей. От некрологов и литературных портретов Ремизов буквально переходит к «мелочам» – об этом свидетельствуют названия глав: «Ртуть», «Оленьи рога», «Продовольственный портфель», «Карандаш». Кончается этот «бисер малый» настоящей стилизацией под Розанова – главкой «Космография», состоящей из афоризмов, житейских анекдотов и сюрреалистических парабол, подобных следующей «ЛЫСЫЕ ПОВЕРХНОСТИ / Лысые поверхности (пустыри, взлизы, взбоины) – излюбленное Полдневного, Ночника и кикимор – но это вещь очень деликатная» (Петербургский буерак. С. 383). Однако «розановская» стилистика в такой же степени сознательно с определенными эстетическими целями использована Ремизовым в срединных разделах книги, в какой стилистика петербургского текста – в первых.
Если глядеть на какую-то вещь сквозь лупу, то мельчайшее покажется ясно видным, если смотреть в небеса на звезду, то она представится маленькой точкой. Ремизов и в этой книге применяет найденный им метод виде́ния «подстриженными глазами», когда трехмерное пространство становится четырехмерным, поскольку оно превращается в особое пространство русской культуры, не имеющей ограниченных временных и метрических координат. Здесь царство иных величин, где, например, точно из космической бездны всплывают фантастические обжоры Квитки-Основьяненко.
«Петербургский буерак» Ремизова – книга об истории культуры и одновременно о методах постижения универсума художественным сознанием, в частности сознанием писателя. При этом непосредственное создание художественного текста предстает лишь первичной формой писательского восприятия. Более сложное понимание сущностных форм микро- и макрокосма достигается, по Ремизову, тогда, когда писатель чаще всего бессознательно подключает к процессу письма свою способность пластически зримо представить изображаемое словом. Поэтому столь важна глава «Рисунки писателей», в которой Ремизов рассматривает рисунок и слово как две сильнейшие взаимодействующие силы. Однако высшей стадией познания многомерного пространства мировых универсалий предстает постижение, идущее из глубины бессознательного, воспринимающее явления и сущности «напрямую». Такова, по Ремизову, роль сновидений. Тем самым писатель утверждает значимость своего особого творческого метода, начало которому было положено еще в «петербургский период», когда редакторы и издатели шарахались от предлагаемым им ремизовских сновидческих циклов. Именно поэтому «Петербургский буерак» оканчивается разделом «Сны в русской литературе».
«Сон» предстает в книге как одна из важнейших онтологических категорий. Способность видеть и изображать сны, по мысли Ремизова, один из показателей наличия у писателя «глубинного зрения». С другой стороны, именно «сон» – это соединительная нить между тем, что явлено, тем, что кануло, и тем, что будет: «Связан ли сон только с жизнью или жизнь только схватывает сновидение, окрашивая или подмешивая в свой алый цвет и втискивая в свою форму? И “сниться” значит “быть”. А будет “быть” и “видеть сны” одно, тогда могу сказать, что человек, выходя из жизни, входит в чистый сон или так сон продолжается и после смерти, но без пробуждений. А снится каждому сообразно с его представлением о загробной жизни, пока не исчерпается все содержание веры, и тогда душа человека искрой канет в океан. А кто никак не связан с небом, “продолжает штопать чулки” или “раскладывать слова”, вообще заниматься делом своей жизни. <…> В сновидении единственное общение “этой” жизни с “той” жизнью. Только так мертвые и могут входить в жизнь живых и, возможно, что и живые могут что-то изменить в судьбе мертвых» (Петербургский буерак. С. 404–405).
Последние произведения Ремизова большой формы – «Мышкина дудочка» и «Петербургский буерак» являются продуманными и эстетически целостными выражениями художественного credo писателя. В них развернута гигантская, представленная «в трех измерениях» историческая панорама – картина заката русского Серебряного века и жизни его представителей в изгнании. Но автор не ограничивается «нормально-мемуарным» взглядом на изображаемое. Перед «подстриженными глазами» Ремизова возникает вселенная русской культуры, которая начинается со времен Древней Руси, продолжается в современности и уходит в бесконечность. Все существующие в ней писатели – и Епифаний Премудрый, и Аввакум, и Вельтман, и Достоевский, и Блок, и Диксон – для Ремизова равновелики как граждане единой страны Слова. В ней нет смерти, ибо ее побеждает искусство. В «Мышкиной дудочке» и «Петербургском буераке» писатель утверждает свое понимание динамики эстетического проникновения в «природу вещей»: от одинокого слова, к его союзу с пластическим изображением и далее через их единство со сновидением – вперед к открытым дверям во вселенную духа.
Вся жизнь Ремизова была вечным служением русской литературе. В 1955 году, как бы подводя итоги своего жизненного пути, он записал в рабочей тетради:
«Русский – Россия через всю мою жизнь.
Пишу по-русски и ни на каком другом.
Русский словарь стал мне единственным источником речи и склада ладов – оборотов речи.
Я вслушивался в живую речь и следил за речью старинных письменных памятников. Имея дар слова, я овладел словесным течением природной русской речи Не все лады слажены – русская книжная речь разнообразна, общих правил синтаксиса нет и не может быть. Восстанавливать к<акой>-н<ибудь> речевой век никогда не думал, и подражать не подражал, пишу на свой лад. Подбрасываю слова и строю фразу как во мне звучит.
Веду свое от Гоголя, Достоевского, Лескова.
Чудесное от Гоголя, боль от Достоевского, чудесное и праведное от Лескова.