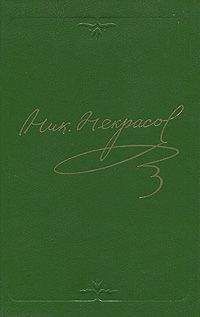Куратов по-прежнему не обращал внимания на свою дочь и решительно не подозревал настоящей цели знакомства с ним Тавровского.
Павел Сергеич задавал у себя в деревне пиры, на которые приглашал Куратова и Любу. Фейерверки, иллюминации и разные другие увеселения были новостью для девушки, жившей в лесу. Люба в первый раз видела общество. Она дичилась его; но внимание хозяина и ее красота делали ее первой везде. Любе стоило только победить свою робость, чтоб говорить со всеми и приводить всех в восторг. Она в несколько уроков, данных Павлом Сергеичем, грациозно вальсировала. И соседи, знавшие воспитание, какое давал Куратов своей дочери, не могли надивиться, где это она выучилась всему. Девушке, не испорченной никакими нанятыми наставницами, ни строгою заботливостью, чтоб она походила на жеманную куклу, ни обществом многочисленной свиты горничных, легко перенять слишком простые условия порядочного круга.
Приближался день рождения Любы. Павел Сергеич в этот день назначил у себя в деревне праздник и пригласил множество гостей, а в том числе Куратова и его дочь.
В доме его совершались страшные приготовления. Ломались стены в комнатах: прилаживали сцену и партер. Тавровский готовил Любе сюрприз, так как она еще не имела понятия ни о каких сценических представлениях.
Глава XLIV
Старые знакомые
В городишке Н, в худшей из его двух улиц, стоял одноэтажный каменный дом, до того старый, что штукатурка местами отвалилась и виднелся кирпич, отчего дом напоминал больного. Окна были испещрены прихотливыми изгибами замазки, которая скрепляла множество зеленоватых стеклушек, заменявших цельные стекла. Одно стекло было разбито, и из него торчала засаленная подушка. Из раскрытого окна этого дома слышались звуки шарманки, визг собак, плач детей и крикливые голоса женщин.
День был летний и жаркий; на улице глухая тишина; редкие пешеходы непременно останавливались у дома, прислушиваясь к разнообразным крикам, и пытались заглянуть в запыленные и изувеченные зеленоватые стекла. Уличные мальчишки карабкались к раскрытому окну, занавешенному до половины дырявым большим шерстяным платком, стараясь заглянуть в комнату, но пугливо бросались на землю от жилистого кулака, являвшегося из-под платка и сопровождаемого грозною бранью на нечистом русском языке.
Комната, раздражавшая любопытство каждого, кто шел мимо, заключала в себе довольно странную коллекцию зверей и людей. Внутренность ее — стены и потолок — были подвержены такой же болезни, какою страдала наружность дома. Комната имела широкий размер; она была длинна и узка, как будто тот, кто строил ее, желал сделать коридор, а не комнату. Дырявые бумажные ширмы расставлены были по разным направлениям окон и стен. Несколько кроватей беззастенчиво красовались в простенках. Комната разделялась на две главные части легкой перегородкой, сколоченной из досок; середина ее была занята мелкими владениями. В первой половине комнаты, захватывавшей два окна, происходила следующая сцена. Играла шарманка, оглашая комнату пронзительными звуками. Слепой старик, весь в лохмотьях, вертел не без усилия ручкой шарманки. Она была огромная и помещалась на подножнике, к которому было привязано штук десять мелких собачонок в разных фантастических нарядах: они жались друг к другу, жалобно взвизгивая каждый раз, как их собратка по ремеслу, прыгавшая на задних лапках, в красном платье и шляпке с петушиными перьями, получала удары прутом от высокой женщины, ходившей кругом с бубнами в руках и страшно кричавшей на бедное животное, и без того уже заробевшее. Наставница собак имела соответственную занятию строгость и непоколебимость в выражении своего длинного лица с серыми глазами, далеко расставленными друг от друга, и таким носом, что половину его смело могла уступить другому; большой рот с кривыми зубами напоминал пасть какого-то плотоядного животного. Белокурые и с проседью волосы были скрыты под тюлевым чепчиком, завязки которого перетягивали костлявый подбородок, украшенный редкими длинными желтоватыми волосами, преимущественно с одной стороны. Верхняя губа слегка была покрыта тоже волосами.
Длинная, плоская, но широкая фигура ее была облечена в ситцевую пеструю юбку и камлотовый малиновый спензер, у которого рукава были с буфами на плечах. Наряд ее довершал черный передник с карманами, из которых торчали какие-то палочки, игрушечная мельница и другие подобные принадлежности собачьих представлений.
Обезьяна, в красном распашном капоте и фуражке на голове, озабоченно прыгала со стула на пол и обратно, попискивая и стараясь освободить свое горло от веревки, которою была привязана к ножке стула. Грязный белый пудель в чепраке, сидя возле слепого, зорко поводил глазами за каждым движением прута наставницы собак.
У соседнего окна, которое было раскрыто и завешено дырявым платком, происходило другого рода учение.
Главное лицо представлял здесь итальянец пожилых лет, с лицом, не отличавшимся кротостью и привлекательностью, атлетического сложения, которое резко выказывалось от грязного белого трико, натянутого на нем. Красные коротенькие панталоны с блестками прикрывали его живот. Ноги его были обуты в грязно-желтые сапоги. Итальянец своими жилистыми и огромными кистями, резко отделявшимися от белого трико, плохо натянутого на его руках, устанавливал на свою голову, обросшую стоящими дыбом, как щетина, волосами, мальчика лет шести в таком же грязном трико и дырявых башмаках. Ребенок, дрожа, искал эквилибру, но не мог найти, — может быть, потому, что жилистые ручищи итальянца поминутно щипали тощие икры ребенка. Итальянец кричал на него:
— Стой, модита, держись!
И если ребенок терял баланс и летел с головы наставника, итальянец ловко ловил его на лету за руку или ногу, отчего кости у ребенка хрустели и он вскрикивал; итальянец устанавливал его вновь, еще сильнее браня и пощипывая.
Подле этой группы мальчик, почти таких же лет и в таком же наряде, как стоявший на голове итальянца, то силился удержаться на голове, то кувыркался, падал, стукался и снова повторял одни и те же штуки, поглядывая робко на итальянца, который, подхватив упавшего опять с его головы ученика, подбросил его выше и отпустил назад. Ученик, пронзительно взвизгнув, упал к передним копытам вороной маленькой лошаденки в желтом чепраке и с перьями на голове, лежавшей у стены. Лошадь пугливо вскочила и заржала; собаки залаяли, потом завизжали от ударов своей наставницы. Шарманка издала унылый звук и замолкла; игравший зажал уши. С минуту крик и гам был страшный в комнате. Женские лица выглянули из-за ширм, и посыпались выговоры итальянцу за кроткое обращение его с детьми.
— Что ты их не высечешь хорошенько перед уроком? Стояли бы в струнку! — крикнула заспанная женщина лет двадцати с подозрительным румянцем и белизной в лице.
Трех зубов у нее недоставало напереди, огромный шрам шел по всей щеке. Белокурые остриженные волосы были завернуты в пукли и зашпилены огромными шпильками. Одета она была в коротенькое ситцевое платье с открытыми лифом и рукавами; полные ноги ее были обуты в розовое трико и танцорские башмаки.
Позевывая и потягиваясь, она поджала ноги под свою коротенькую юбку и снова расположилась заснуть. Но в эту самую минуту вбежала в комнату старая худощавая женщина, бедно одетая; на голове ее повязан был платок; по ее мокрому переднику и рукам в мыле легко можно было угадать ее занятие. Она кинулась к упавшему мальчику, которого итальянец уже держал на воздухе за волосы, а наставница собак хлестала розгой.
— Ну, полноте: я ведь сколько раз вам говорила, чтоб их не бить! — вырывая мальчика из рук итальянца, кричала худощавая женщина.
— Как же хочешь их учить? — спросила наставница собак.
— Его надо бить: умней будет! — подхватил итальянец.
— Возьми розги, а уж руками не дерись, и так на что они похожи! — выходя из себя, кричала женщина так громко, как будто слушатели ее стояли за полверсты от нее.
— Балуй, балуй их, скоро они так выучатся! — заметила женщина со шрамом на щеке.
— Да помилуйте, Юлия Ивановна! вон какой желвак опять вскочил, — рассматривая лоб у плакавшего ребенка, отвечала более тихим голосом худощавая женщина, повязанная платком.
— Экая важность! меня так учили не так: сколько раз голову-то проламывали; а небось…
— То-то такая отважная и вышла! — раздался чей-то хриплый голос из-за ширмы, стоявшей вблизи от кровати той, которую худощавая женщина, защищавшая детей, называла Юлией Ивановной.
Смех раздался за легкой перегородкой. Юлия Ивановна вскочила с постели и, приняв грозную позу, выразительно сказала:
— Я вам задам, пересмешницы, а тебе, старому, зажму рот!
— Юлия, Юлия! — кричала наставница собак и прибавила по-немецки: — Оставь русских мужичек.