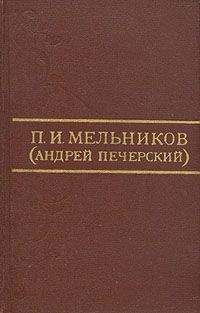— Бога она не боится!.. Умереть не дает божьей старице как следует, — роптала она. — В черной рясе да к лекарям лечиться грех-от какой!.. Чего матери-то глядят, зачем дают Марье Гавриловне в обители своевольничать!.. Слыхано ль дело, чтобы старица, да еще игуменья, у лекарей лечилась?.. Перед самою-то смертью праведную душеньку ее опоганить вздумала!.. Ох, злодейка, злодейка ты, Марья Гавриловна… Еще немца, пожалуй, лечить-то привезут — нехристя!.. Ой!.. Тошнехонько и вздумать про такой грех…
И целый день с утра до ночи пробродила Аксинья Захаровна по горницам. Вздыхая, охая и заливаясь слезами, все про леченье матушки Манефы она причитала.
Стала Настя проситься у матери.
— Отпусти ты меня в обитель к тетеньке, — с плачем молила она. — Поглядела б я на нее, сердечную, хоть маленько бы походила за ней… Больно мне жалко ее! И, рыдая, припала к плечу матери…
— Полно-ка ты, Настенька, полно, моя болезная, — уговаривала ее Аксинья Захаровна, сама едва удерживая рыданья. — Посуди, девонька, — могу ль я отпустить тебя? Отец воротится, а тебя дома нет. Что тогда?.. Аль не знаешь, каков он во гневе бывает?..
— Мамынька, да ведь это не такое дело… Не на гулянье прошусь, не ради каких пустяков поеду… За что ж ему гневаться?.. Тятенька рассудлив, похвалит еще нас с тобой.
— Много ты знаешь своего тятеньку!.. — тяжело вздохнув, молвила ей Аксинья Захаровна. — Тридцать годов с ним живу, получше тебя знаю норов его… Ты же его намедни расстроила, молвивши, что хочешь в скиты идти… Да коль я отпущу тебя, так он и не знай чего со мной натворит. Нет, и не думай про езду в Комаров… Что делать?.. И рада бы пустить, да не смею…
— Да право же, мамынька, не будет ничего, — приставала Настя. — Ведь матушка Манефа и мне и тятеньке не чужая… Серчать не станет… Отпусти, Христа ради… Пожалуйста.
— Да полно ж тебе!.. Сказано нельзя, так и нельзя, — с досадой крикнула, топнув ногой, Аксинья Захаровна. — Приедет отец, просись у него, а мне и не говори и слов понапрасну не трать… Не пушу!..
— А как тетенька-то помрет?.. Тогда что?.. Разве не будешь в те поры каяться, что не хотела пустить меня проститься с ней?.. — тростила свое Настя.
— Отвяжешься ли ты от меня, непутная? — в сердцах закричала, наконец, Аксинья Захаровна, отталкивая Настю. — Сказано не пущу, значит и не пущу!.. Экая нравная девка, экая вольная стала!.. На-ка поди… Нет, голубка, пора тебя к рукам прибрать, уж больно ты высоко голову стала носить… В моленную!.. Становись на канон… Слышишь?.. Тебе говорят!..
С сердцем повернулась Настя от матери, быстро пошла из горницы и хлопнула изо всей мочи дверью.
— Э!.. Жизнь каторжная!.. — пробормотала она, выходя в сени.
— Эка девка-то непутная выросла!.. — оставшись одна, ворчала Аксинья Захаровна. — Ишь как дверью-то хлопнула… А вот я тебя самое так хлопну… погоди ты у меня!.. Ишь ты!.. И страху нет на нее, и родительской грозы не боится… Отпусти ее в скит без отцовского позволенья… Да он голову с меня снимет… А любит же Настасья матушку… Так и разливается плачет и сама ровно не в себе ходит. Ох-ох-ох!.. И сама бы я съездила, да дом-от на кого покинуть?.. Не Алексея же с девками оставить… А их взять в Комаров, тоже беда… Ох, девоньки мои, девоньки!.. Была бы моя воля, отпустила б я вас… Не смею… А матушка-то Манефа!.. Поганят голубушку лекарствами перед смертью-то!..
И горько зарыдала Аксинья Захаровна, припав к столу головою…
Шли у Насти дни за днями в тоске да в думах. Словом не с кем перекинуться: сестра походя дремлет, Евпраксеюшка каноны читает, Аксинья Захаровна день-деньской бродит по горницам, охает, хнычет да ключами побрякивает и все дочерей молиться за тетку заставляет…
О враге-лиходее ни слуху, ни духу… Вспомнит его Настя, сердце так и закипит, так взяла бы его да своими руками и порешила… Не хочется врага на уме держать, а что-то тянет к окну поглядеть, пойдет ли Алексей, и грустно ли смотрит он, али весело.
Не видно Алексея… Никто не поминает про него Настасье Патаповне.
«Да что ж это за враг такой! — думает она. — Ему и горюшка мало, и думать забыл про меня!.. Что ж, мол?.. Подвернулась девчонка неразумная, не умела сберечь себя, сама виновата!.. А наше, мол, дело молодецкое — натешился да и мимо, другую давай!.. Нет, молодец!.. Постой!.. Еще не знаешь меня!.. Покажу я тебе, какова Настасья Патаповна!.. Век не забудешь меня… Под солдатскую шапку упрячу, стоит только тятеньке во всем повиниться… А змее разлучнице, только б узнать, кто она такова… нож в бок — и делу конец… В Сибирь, так в Сибирь, а уж ей, подколодной гадине, на белом свете не жить».
Почти бегает взад и вперед по светлице взволнованная девушка, на разные лады обдумывая мщенье небывалой разлучнице. Лицо горит, глаза зловещим пламенем блещут, рукава засучены, руки крепко сжаты, губы трепещут судорогами.
Однажды в сумерки, когда Аксинья Захаровна, набродившись досыта, приустала и легла в боковуше посумерничать, Настя вышла из душной, прокуренной ладаном моленной в большую горницу и там, стоя у окна, глядела на догоравшую в небе зарю. Было тихо, как в могиле, только из соседней комнаты раздавались мерные удары маятника.
Скрипнула дверь, Настя оглянулась. Перед ней стоял Алексей.
— Чего тебе здесь надо? — строго спросила его Настя, не двигаясь с места и выпрямившись во весь рост.
— К Аксинье Захаровне, — робко проговорил Алексей, глядя в пол и повертывая в руках шапку.
— Спит… Теперь не время, — сказала Настя и повернулась к окну.
— Дело-то такое, Настасья Патаповна, сегодня бы надо было мне доложиться ей, — молвил Алексей, переминаясь у двери.
— Сказано — спит. Чего еще?.. Ступай!.. — горделиво сказала Настя, не оборачиваясь к Алексею.
Он не уходил. Настя молчала, глядя на зарю, а сердце так и кипит, так и рвется. Силится сдержать вздохи, но грудь, как волна, подымает батистовую сорочку.
Раз двадцать ударил маятник. Оба ни слова, оба недвижны…
Ступил шаг Алексей, другой, третий… Настя быстро обернулась, подняв голову… Ни слова ни тот, ни другая.
Еще ступил Алексей, приближаясь к Насте… Она протянула руку и, указывая на дверь, твердо, холодно, какими-то медными звуками сказала ему:
— Вон!
Он схватил ее за руку и, припав к ней лицом, навзрыд заплакал.
— Настенька!.. Золотая моя!.. За что гневаешься?.. Пожалей ты меня, горького… Тошнехонько!.. Хоть руки на себя наложить!..
— Тише!.. Тише… мамынька услышит…— шепотом ответила Настя.
И жгучий поцелуй заглушил ее речи. Страсть мгновенно вспыхнула в сердце девушки… Как в чаду каком, бессознательно обвила она врага-лиходея белоснежными руками…
Без речей, без объяснений промелькнули сладкие минуты примиренья. Размолвка забыта, любовь в Настином сердце загорелась жарче прежнего.
После недолгого молчанья Алексей, не выпуская Настиной руки, сказал ей робким голосом, запинаясь на каждом слове:
— Про какую разлучницу ты поминала? Кто это наплел на меня?..
— Не поминай, — шептала Настя, тихо склоняясь на грудь лиходея. — Что поминать?.. Зачем?..
— Да нет, с чего ты взяла? — продолжал Алексей. — Мне в голову не приходило, на разуме не бывало…
— Да перестань же, голубчик!.. Так спросту сказала: ты невеселый такой, думчивый. Мне и вспало на ум…
— То-то и есть: «думчивый, невеселый»! А откуда веселью-то быть, где радостей-то взять? — сказал Алексей.
— Так моя любовь тебе не на радость? — быстро, взглянув ему в глаза, спросила Настя.
— Не про то говорю, ненаглядная, — продолжал Алексей. — Какой мне больше радости, какого счастья?.. А вспадет как на ум, что впереди будет, сердце кровью так и обольется… Слюбились мы, весело нам теперь, радостно, а какой конец тому будет?.. Вот мои тайные думы, вот отчего невеселый брожу…
— Как какой конец? — молвила удивленная Настя. — Будем муж да жена. Тем и делу конец…
— Легко сказать, Настенька, каково-то сделать? — уныло промолвил Алексей.
— Как люди, так и мы, — ответила Настя. — Нечего о том сокрушаться.
— А родители? — чуть слышно сказал Алексей.
— Чьи?
— Известно, не мои.
— Ты про тятеньку, что ли? — спросила Настя.
— Да…
— Повенчавшись придем да в ноги ему, — усмехнулась Настя. — Посерчает, поломается, да и смилуется… Старину вспомнит… Ведь сам он мамыньку-то уходом свел, сам свадьбу-самокрутку играл…
— Мало ли что старики смолоду творят, а детям не велят?.. — сказал Алексей. — То, золотая моя, дело было давнишнее, дело позабытое… Случись-ка что — вспомнит разве он про себя с Аксиньей Захаровной?..
— Вспомнит! — молвила Настя. — Беспременно вспомнит и простит…
— Не таков человек, — ответил Алексей. — Тут до беды недолго.
— До какой беды?
— До кровавой беды, моя ненаглядная, до смертного убойства, — сказал Алексей. — Горд и кичлив Патап-от Максимыч… Страшен!.. На гибель мне твой родитель!.. Не снести его душе, чтобы дочь его любимая за нищим голышом была… Быть мне от него убитому!.. Помяни мое слово, Настенька!..