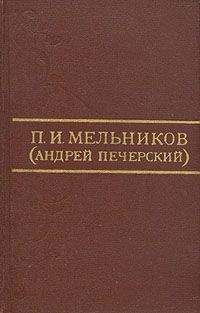Спать ляжет, во сне такие же сны видятся. Вот сидит он в своих каменных палатах, все прибрано, и все богато разукрашено… Несметные сокровища, людской почет, дом полная чаша, а под боком жена-красавица, краше ее во всем свете нет… Жить в добре да в красне и во снях хорошо: тешат Алексея золотые грезы, сладко бьется его сердце при виде длинного роя светлых призраков, обступающих его со всех сторон, и вдруг неотвязная мысль о Чапурине, о погибели… Сонные видения мутятся, туманятся, все исчезает, и перед очами Алексея темной жмарой встает страшный образ разъяренного Патапа Максимыча. Как зарево ночного пожара, пылает грозное лицо его, раскаленными угольями сверкают налитые кровью глаза, по локоть рукава засучены, в руке дубина, а у ног окровавленная, едва дышащая Настя… Кругом убийцы толпится рабочий люд, ожидает хозяйского приказа. Грозный призрак указывает на полумертвого от страха Алексея, кричит: «Давай его сюда: жилы вытяну, ремней из спины накрою, в своей крови он у меня захлебнется!..» Толпа кидается на беззащитного, нож блеснул… И с страшным криком просыпается Алексей… Долго не может очнуться и, опомнившись, спешно творит одно за другим крестные знамения…
Чуть не каждую ночь такие тяжелые сны… И западает на мысль Алексею: неспроста такие сны видятся, то вещие сны, богом они насылаются, ангелами приносятся, правду предсказывают… Вспоминает про первое свиданье с Патапом Максимычем, вспоминает, как тогда у него ровно кипятком сердце обдало при взгляде на будущего хозяина, как ему что-то почудилось — не то беззвучный голос, не то мысль незваная, непрошеная… И становится Алексей день ото дня сумрачней, ходит унылый, от людей сторонится, иной раз и по делу какому слова от него не добьются. Заели Лохматого думы да страхи… Где бы смелости взять, откуда б набраться отваги?
«Эх, далось бы мне это ветлужское золото! — думает он. — Другим бы тогда человеком я стал!.. Во всем довольство, обилье, ото всех почет и сам себе господин, никого не боюсь!.. Иль другую бы девицу, либо вдовушку подцепить вовремя, чтоб у ней денежки водились свои, не родительские… Тогда… Ну, тогда прости, прощай, Настасья Патаповна — не поминай нас лихом…»
***
Раз утром, после тревожных сновидений, в полклете возле своей боковуши сидел Алексей, крепко задумавшись. Подсел к нему старик Пантелей.
— Алексеюшка, — молвил он, — послушай родной, что скажу я тебе. Не посетуй на меня, старика, не погневайся; кажись, будто творится с тобой что-то неладное. Всего шесть недель ты у нас живешь, а ведь ровно из тебя другой парень стал… Побывай у своих в Поромове, мать родная не признает тебя. Жалости подобно, как ты извелся… Хворь, что ль, какая тебя одолела?
— Нет, Пантелей Прохорыч, хвори нет у меня никакой. Так что-то… на душе лежит…— отвечал Алексей.
— Дума какая? — продолжал свой допрос Пантелей.
— Ох, Пантелей Прохорыч! — вздохнул Лохматый. — Всех моих дум не передумать. Мало ль заботы мне. Люди мы разоренные, семья большая, родитель-батюшка совсем хизнул с тех пор, как господь нас горем посетил… Поневоле крылья опустишь, поневоле в лице помутишься и сохнуть зачнешь: забота людей не красит, печаль не цветит.
— Не о чем тебе, Алексеюшка, много заботиться. Патап Максимыч не оставит тебя. Видишь сам, как он возлюбил тебя. Мне даже на удивленье… Больше двадцати годов у них в дому живу, а такое дело впервой вижу… О недостатках не кручинься — не покинет он в нужде ни тебя, ни родителей, — уговаривал Пантелей Алексея.
— Так-то оно так, Пантелей Прохорыч, а все же гребтится мне, — сказал на то Алексей. — Мало ль что может быть впереди: и Патап Максимыч смертный человек, тоже под богом ходит… Ну как не станет его, тогда что?.. Опять же как погляжу я на него, нравом-то больно крутенек он.
— Есть грешок, есть, — подтвердил Пантелей. — Иной раз ни с того ни с сего так разъярится, что хоть святых вон неси… Зато отходчив…
— Как на грех чем не угодишь ему?.. Человек я маленький, робкий… Боюсь я его, Пантелей Прохорыч… Гроза сильного аль богатого нашему брату полсмерти.
— Не говори так, Алексеюшка, — грех! — внушительно сказал ему Пантелей. — Коли жить хочешь по-божьему, так бойся не богатого грозы, а убогого слезы… Сам никого не обидишь, и тебя обидеть не попустит господь.
— Знаю я это, сызмалу родители тому научили, — молвил Алексей, — а все же грозен и страшен Патап Максимыч мне… Скажу по тайне, Пантелей Прохорыч, ведь я тебя как родного люблю, знаю — худого от тебя мне не будет…
— Что же, что такое? — спросил Пантелей, думая, что Алексей хочет рассказывать ему про замыслы Стуколова.
Встал Алексей с лавки и зачал ходить взад и вперед по подклету.
— Тайная дума какая? — допытывал Пантелей, — может, неладное дело затеяно?
— Худых дел у меня не затеяно, — отвечал Алексей, — а тайных дум, тайных страхов довольно… Что тебе поведаю, — продолжал он, становясь перед Пантелеем, — никто доселе не знает. Не говаривал я про свои тайные страхи ни попу на духу, ни отцу с матерью, ни другу, ни брату, ни родной сестре. Тебе все расскажу… Как на ладонке раскрою… Разговори ты меня, Пантелей Прохорыч, научи меня, пособи горю великому. Ты много на свете живешь, много видал, еще больше того от людей слыхал… Исцели мою скорбь душевную.
И, опершись руками на плечи Пантелея, опустил Алексей на грудь его пылающую голову.
— Чтой-то, парень? — дивился Пантелей. — Голова так и палит у тебя, а сам причитаешь, ровно баба в родах?.. Никак слезу ронишь?.. Очумел, что ли, ты, Алексеюшка?.. В портках, чать, ходишь, не в сарафане, как же тебе рюмы-то распускать… А ты рассказывай, размазывай толком, что хотел говорить.
— Видишь ли, Пантелей Прохорыч, — собравшись с силами, начал Алексей свою исповедь, — у отца с матерью был я дитятко моленное-прошенное, первенцом родился, холили они меня, лелеяли, никогда того и на ум не вспадало ни мне, ни им, чтоб привелось мне когда в чужих людях жить, не свои щи хлебать, чужим сугревом греться, под чужой крышей спать… И во сне мне таково не грезилось… Посетил господь, обездолили нас люди недобрые — довелось в чужих людях работы искать, — продолжал Алексей. — Сам посуди, Пантелей Прохорыч, каково было мне, как родитель посылал нас с братишкой на чужие хлеба, к чужим людям в работники!.. Каково было слышать мне ночные рыдания матушки!.. Она, сердечная, думала, что мы с братом лежим сонные, да всю ночь-ноченскую просидела над нами, тихонько крестила нас своей рученькой, кропила лица наши горючой слезой… Ох, каково было горько тогда… Вздумать не могу!.. И крепко обнял Алексей старика Пантелея.
— Полно… не круши себя, — говорил Пантелей, гладя морщинистой рукой по кудрям Алексея. — Не ропщи… Бог все к добру строит: мы с печалями, он с милостью.
— Не ропщу я на господа. На него возверзаю печали мои, — сказал, отирая глаза, Алексей. — Но послушай, родной, что дальше-то было… Что было у меня на душе, как пошел я из дому, того рассказать не могу… Свету не видел я — солнышко высоко, а я ровно темной ночью брел… Не помню, как сюда доволокся… На уме было — хозяин каков? Дотоле его я не видывал, а слухов много слыхал: одни сказывают — добрый-предобрый, другие говорят — нравом крут и лют, как зверь…
— Мало ль промеж людей ходит слухов! Сто лет живи, всех не переслушаешь, — сказал Пантелей.
— Прихожу я в Осиповку, — продолжал Алексей, — Патап Максимыч из токарни идет. Как взглянул я на него, сердце у меня так и захолонуло…
— Грозен показался? — спросил Пантелей.
— Нет, — отвечал Алексей. — Светел ликом и добр. Только ласку да приятство видел я на лице его, а как вскинул он на меня глазами, показались мне его глаза родительскими: такие любовные, такие заботные. Подхожу к нему… И тут… ровно шепнул мне кто-то: «От сего человека погибель твоя». Так и говорит: «От сего человека погибель твоя». Откуда такое извещение — не знаю.
— От сряща беса полуденного, — строго сказал Пантелей. — Его окаянного дело, по всему видно. От него и страхи нощные бывают, и вещь, во тьме преходящая, и стрела, летящая во дни… Ты, Алексеюшка, вражьему искушенью не поддавайся. Читай двенадцату кафизму, а нет, хоть один псалом «Живый в помощи вышнего», да молись преподобному
Нифонту о прогнании лукавых духов… И отступится от тебя бес полуденный… Это он шептал, и теперь он же смущает тебя… Гони его прочь — молись…
— Буду молиться, родной, сегодня ж зачну, — отвечал Алексей. — А не выйдет у меня из головы то извещение, все-таки буду бояться Патапа Максимыча.
— А от страха перед сильным слушай, что пользует, — сказал Пантелей."Вихорево гнездо" видал?
— Не знаю, что за «вихорево гнездо» такое, — отвечал Алексей.
— На березе живет, — сказал Пантелей. — Когда вихорь летит да кружит — это ветлы небесные меж себя играют… Невегласи, темные люди врут, что вихорь — бесовская свадьба, не верь тем пустым речам… Ветры идут от дуновения уст божиих, какое же место врагу, где играют они во славу божию… Не смущайся — что сказывать стану — в том нечисти бесовской ни капли нет… Когда ветры небесные вихрями играют пред лицом божиим, заигрывают они иной раз и с видимою тварию — с цветами, с травами, с деревьями. Бывает, что, играя с березой, завивают они клубом тонкие верхушки ее… Это и есть «вихорево гнездо».