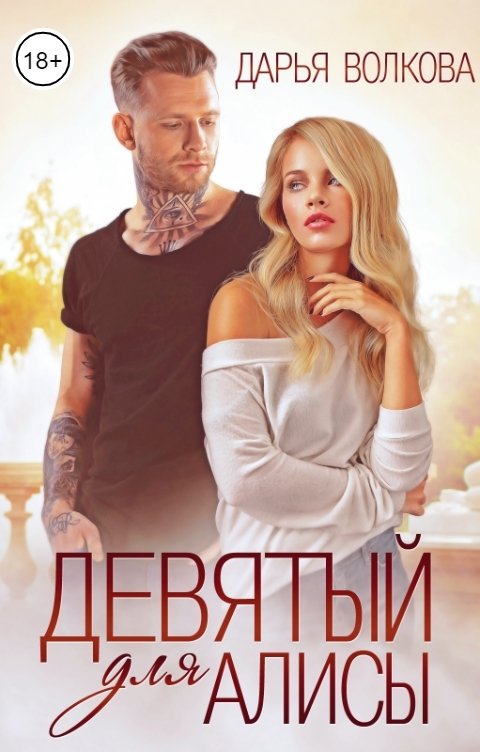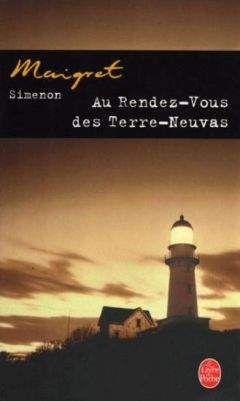зелеными свежими кустиками; и, глядя на все это, прислушиваясь к мирному шуму леса, мерному звуку моих же шагов по дороге, я вновь, помню, испытал, сквозь все свое горе, вопреки ему и им же усиленное, то чувство полноты бытия, которое так остро испытывал когда-то в горах: полноты бытия, где, так я чувствовал, им обоим было место, и Карине, и Ясу, как было место вообще всему прошлому, всему настоящему. Я вспомнил свои давние (детские, глупые) мысли о невозможности вынести суждения типа
истинно — ложно о том, чего нет. Ничего этого давно уже нет, но мы или видели — или не видели пирамидки из камней в Ирландии, куда ездили с детьми и Кариной в 2001 году, где, перед тем как доехать до Голвея, взять напрокат машину и отправиться в путешествие по каменной Коннемаре, с ее отраженными в неподвижных озерах холмами и скалами, провели неделю в Дублине, и в Дублине чуть ли не первым делом сходили на тот мост через Лиффей, где «во вспышке гения», in a flash of genius, Вильям Гамильтон придумал кватернионы. Мы туда ходили — или не ходили туда, видели пирамидки — или не видели их. Это было, этого нет; но это по-прежнему или истинно, или ложно, или есть истина, или есть не-истина, до скончания времен. Значит, до скончания времен это каким-то образом есть, иначе мы не могли бы сказать, что это есть истина или есть, опять же, не-истина. И да, конечно, конечно, это всего лишь игра ума, занимавшая меня в юности, более ничего, и я прекрасно понимал, что это ничему не может служить доказательством, что игра ума остается игрой ума, и все же продолжал думать об этом, глядя на солнечные пятна вокруг, на синие холмы и еще более синие горы за зелеными ветками, дальние планы жизни, думать об этом все с тем же, еще довольно долго, всю дорогу до автомобильной стоянки державшимся во мне чувством полноты бытия, в котором, да, все, что было, по-прежнему есть истинно или ложно, и значит, по-прежнему есть; но еще почти пять, и очень мучительных, прошло лет, прежде чем на одной мюнхенской математической лекции (по стохастике, как в Германии принято выражаться) я встретил Жижи — и моя жизнь получила совсем новый, никем не предвиденный, прекраснейший поворот.
И теперь — что же? Я писал ровно полгода то, что вот сейчас заканчиваю писать: с середины марта до середины сентября этого странного, страшного, коронавирусного 2020 года. А помнишь, как мы возвращались в новогодний вечер с концерта в Gasteig’e, сперва ждали трамвая возле Deutsches Museum, потом, презрев промозглый холод, пошли пешком вдоль реки, где первые придурки уже пускали свои ракеты, домой в Богенхаузен, и как говорили о том, что год с такими цифрами — два-ноль-два-ноль — наверняка будет особенным, просто не может не быть особенным, исключительным годом и что следовало бы записывать каждый день события этого года? Но событий никаких не было, разве что в самом начале. Мы вернулись в Мюнхен из Бингена (Бельгии, Бланкенберге), сходили вечером (как потом выяснилось: в последний раз) в тайский ресторан по соседству; а потом мир закрылся; из магазинов первым делом исчезла туалетная (почему-то) бумага, так что в ближайшем к нам супермаркете ее продавали лишь по утрам (сразу все раскупалось) и по одной упаковке в руки (как тут было не вспомнить наше прекрасное советское детство, наш потерянный социалистический рай? исхода нет, Жижи, все повторяется); по радио и телевизору сперва долго рассказывали, что маски носить не надо, от масок один только вред; и в аптеках не было, действительно, масок (потому небось и рассказывали, что масок не было); из дрогерий и тех же аптек исчезли все средства дезинфекции, все антисептики, все баночки и тюбики с гелем; потом начали возвращаться; маски начали возвращаться; потом закрылись все магазины, кроме продовольственных, все парикмахерские; потом выяснилось, что маски нужны, без масок никак (а без масок и в самом деле никак; мы все носим маски; и кто знает, что там под масками?); потом что-то открылось; потом все открылось, но без масок никуда не пускали (и вправду, куда же без масок? мы все носим маски; всегда носим маски; наши мысли — тоже, в сущности, маски; см. выше; все уже сказано); но я следил за пандемией (как тут же стало принято выражаться; в мое время были одни эпидемии, и этого нам хватало) лишь вчуже; смотрел новости, почти сразу их забывал; старался (без большого успеха) уговорить уже давно живущих своей отдельной, очень студенческой жизнью детей (Тео в Англии, Лиза в Берлине) посидеть дома (в их возрасте это трудно); передал, или почти передал, дела фирмы Жижи и Матиасу, как раз привыкшим сидеть дома и за компьютером: Жижи в соседней комнате, Матиас на Штарнбергском озере (где он построил себе домишко, читай: виллу, вскоре после нашего столь удачно начавшегося, не менее удачно продолжившегося романа с компанией Intel); сам же, не в силах и по-прежнему не в силах справиться со всем тем, что узнал в Бланкенберге от Мары, начал просто описывать нашу встречу в этом бетонном месте (пирс, Параванг); скоро понял, что так ничего у меня не получится; что надо начать с начала, с первых воспоминаний о Ясе, о самой Маре, о той Москве, которой давно уже нет, куда я теперь уже и не знаю, как полететь, как попасть; и, собственно, провел за этим писанием всю весну и все лето, отвлекаясь от него разве чтобы поехать на машине куда-нибудь в горы и за город, на то же Штарнбергское озеро, или на Тегернзее, или на Шлирзее; и в лесах, в предгорьях в начале моего писания появились первые зеленые, потом, в конце писания, первые желтые листики; и вот теперь уже осень, уже не отдельные листики, но уже полно желтых листьев, уже тьма желтых листьев повсюду; уже шебуршат они под ногами, в аллеях у Изара; и сколько- то дней назад переломилась погода; дожди обрушились на мир и Баварию; температура упала в забытые ею низины; и все ждут второй волны (как девятого вала); и (кто ж спорит?) самое простое было бы написать сейчас, что, да, и у меня болит горло; что, да, болит, уже пятый день; болит, не проходит; и что кашель тоже есть, не очень сильный, но что мне уже трудно скрывать его от Жижи; и температура уже готова подняться