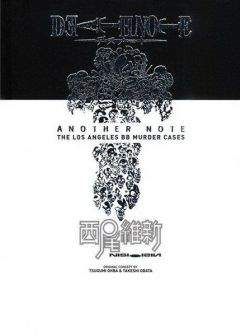И вотъ… О, горе мнѣ, горе мнѣ…
Представилось фантазіи моей въ эту минуту одно обстоятельство изъ того времени, когда я еще жилъ въ Загорахъ, у матери, и учился у Несториди.
Однажды пріѣхалъ въ то время къ роднымъ своимъ изъ Константинополя одинъ богатый загорецъ. На груди его мирно сіяли рядомъ св. Станиславъ и Меджидіе. Я никогда не видалъ этого и съ глубокимъ чувствомъ и жаднымъ любопытствомъ спросилъ у Несториди:
— Господинъ учитель! Какъ же это такъ, что Россія и Турція столь часто враждуютъ, а онъ христіанинъ, и у него и русскій крестъ, и турецкій ниманъ есть?.. Развѣ это можно?
— Отчего же нельзя? Видишь — значитъ можно.
Я поинтересовался узнать, какъ же именно можно достичь такого страннаго сочетанія.
Несториди отвѣчалъ мнѣ такъ:
— Можно даже къ этимъ ниманамъ и эллинскаго Спасителя на голубой лентѣ привѣсить. Я научу тебя, какъ. Надо дѣлать сперва съ турками какіе-нибудь выгодные обороты, поставки напримѣръ на войско, и пашамъ хорошія взятки давать. Вотъ — Меджидіе. Потомъ русскимъ доносить на турокъ, что они берутъ взятки и что съ ними жить невозможно. Это — Станиславъ. А изъ того, что́ заработаешь и отъ турокъ, и чрезъ русскую протекцію, пожертвовать на эллинское возстаніе или на большую школу для борьбы противъ панславизма. Вотъ — Спаситель…
Учитель сначала говорилъ серьезно; но подъ конецъ рѣчи онъ не могъ уже удержаться отъ улыбки.
Отецъ мой сказалъ тогда, качая слегка головой: — Что́ ты говоришь ребенку!
А мать моя засмѣялась громко и весело воскликнула:
— Учитель всегда говоритъ хорошо!.. Правда это!.. Зачѣмъ человѣку не быть искуснымъ въ этой жизни?
И я послѣ этого долго дивился мудрости людей, подобныхъ этому загорцу съ Меджидіе и Станиславомъ, и думалъ: отчего это учитель смѣялся словамъ своимъ и зачѣмъ отецъ качалъ ему головой съ укоромъ? Если паша добрый, отчего же не почтить его пріятными дарами; если паша злой, то чѣмъ же, какъ не дарами, умилостивить изверга? А русскимъ доносить на турокъ — это нашъ долгъ; а просвѣщенію эллинскому и освобожденію способствовать — тоже обязанность… О разумъ, разумъ!.. сіяющая искра божественная, отличающая словесную тварь, человѣка, отъ безсловесныхъ!.. Какіе плоды ты можешь принести намъ когда мы управляемся тобою, а не страстями нашими!..
Да! съ помощью разума я построилъ бы новый домъ въ Загорахъ, большой и высокій, и каменный. Корабли бы мои плыли и плыли по морямъ, и въ Марсель, и въ Одессу, и въ Италію, и въ Бейрутъ… И съ пшеницей, и съ шелкомъ, и съ лимонами, и съ шерстью, и съ табакомъ турецкимъ, и тюмбеки́ персидскимъ…
Но!.. Она, она… колдуньи дочь… (такъ пѣла мнѣ вчера пророческая пѣсня), она заколдовала «мои корабли», и они не поплывутъ теперь никуда!
Вотъ завтра поутру консулъ позоветъ меня и воскликнетъ:
— Одиссей! Твой отецъ мнѣ другъ, и я готовъ былъ полюбить тебя, какъ меньшого брата, но ты не достоинъ. Не я ли удостоилъ самъ своею рукой наказать офиціально на улицѣ твоихъ оскорбителей турокъ? Не ты ли наслаждался брашенъ въ дому моемъ?.. Иди съ глазъ моихъ, развращенный и лукавый мальчикъ! Не оскверняй больше жилища моего ты, котораго поведеніе такъ несообразно ни съ нѣжнымъ возрастомъ твоимъ, ни съ правилами христіанской нравственности. Я все передамъ твоему досточтимому родителю и другу моему…
Такъ сказалъ бы у насъ почти всякій честный глава дома и каждый добродѣтельный архонтъ…
Но если онъ самъ?.. Если она любима имъ… О! Я не ревную… Она мнѣ отвратительна теперь… Но если?.. Тогда онъ такъ не скажетъ… Тогда еще хуже… Онъ все-таки удалитъ меня… Что́ жъ дѣлать мнѣ?.. Куда мнѣ скрыться отъ стыда и вопросовъ, отъ улыбокъ слугъ и насмѣшекъ товарищей?.. Боже! Боже! прости мнѣ и помоги мнѣ несчастному!..
И еще: если онъ не станетъ даже и говорить такъ много и такъ трогательно, а скажетъ мнѣ, какъ сказалъ жалкому Понтикопеци слегка, но такъ значительно, подступая къ нему: «Съ Богомъ!» Куда я пойду?
Или онъ и не скажетъ даже «съ Богомъ», а поблѣднѣетъ такъ страшно, какъ поблѣднѣлъ тогда, поднимая трость на сеиса, и воскликнетъ громовымъ голосомъ: «Вонъ! негодяй!..»
И изъ-за чего? изъ-за чего? И зачѣмъ было это?.. Стыдъ, глупость, грѣхъ, позоръ безсмысленный!..
Такъ я уснулъ, наконецъ, утомленный и веселымъ вечеромъ, и горемъ ночнымъ, на обломкахъ и прахѣ Сизифова камня…
Но камень этотъ низринулся съ крутой высоты лишь въ одномъ воображеніи моемъ!.. Онъ лежалъ спокойно, не у вершины (ибо мы всѣ въ жизни Сизифы, и у кого есть та неподвижная вершина, которой можно достичь, катя этотъ тяжкій камень жизни? Не у всѣхъ онъ падаетъ внезапно внизъ; но или сама вершина, влекущая насъ, отодвигается по мѣрѣ приближенія нашего и зоветъ насъ снова къ себѣ, или камень, откатываясь хоть и немного назадъ при каждомъ усиліи нашемъ, никогда не можетъ достичь до того райскаго жилища радости и покоя, гдѣ розы растутъ безъ шиповъ)… И мой камень не упалъ и не разбился, и не у мечтательной вершины этой лежалъ, а лежалъ онъ лишь тамъ же, гдѣ былъ и вчера, до поцѣлуя, на диванѣ; онъ былъ все у того же русскаго порога, отъ котораго никто отгонять меня и не грозился.
Открылъ я мои очи, смеженныя сномъ, взглянулъ я на окно, озаренное солнцемъ, прочелъ я «Па́теръ Имо́нъ»92, одѣлся и поспѣшилъ въ школу все еще смущенньй и задумчивый, но готовый мужественно трудиться и не прилагать новаго зла ко злу, уже совершонному, не прилагать унынія и лѣни къ легкомыслію и разврату…
Въ училищѣ я былъ старателенъ, благодаря моей настойчивой способности къ учебному подвигу, но невольно и страдальчески разсѣянъ; я забылъ, кто былъ Калликратидъ, и въ чемъ онъ былъ такъ благороденъ, и какъ онъ погибъ. И потомъ такъ глупо и неправильно написалъ слово «Эвніа», что вмѣсто «благосклонности» вышло «постель»…
— Не выспался еще послѣ вчерашняго бала. Ищешь не благосклонности, а постели… — сказалъ учитель, не гнѣвно, ибо онъ уважалъ мое прилежаніе и способности, а лишь съ тонкою улыбкой…
Но товарищи засмѣялись громко, и мнѣ было это очень непріятно.
Случайное совпаденіе въ смыслѣ этихъ словъ «ищешь не благосклонности, а постели…» даже ужаснуло меня своею неожиданностью. Я увидѣлъ въ этомъ такой со стороны учителя ясный намекъ на мои обстоятельства и на минуту потерялся до того, что вся кровь мнѣ бросилась въ голову и слезы готовы были политься изъ глазъ моихъ.
Но добрый мой наставникъ, замѣтивъ мое смущеніе, обратился строго къ товарищамъ и заставилъ ихъ молчать, восклицая:
— Утихните! Что́ вы смѣетесь надъ Одиссеемъ, который лучше всѣхъ васъ. Онъ одинъ разъ только ошибся, а вы? Садись, садись, Одиссей! Прекрасно! Прекрасно, дитя мое.
Я и тутъ чуть-чуть было еще сильнѣе не заплакалъ, теперь ужъ отъ умиленія и признательности.
Насилу дождался я окончанія классовъ и побѣжалъ въ консульство, чтобъ узнать скорѣй, скорѣй мой приговоръ.
Пришелъ… Ахъ! Какъ тутъ все хорошо! Какъ все пестро! Какъ пахнетъ духами и свѣжимъ деревомъ новой постройки! И какъ красива хрустальная плоская ваза съ фруктами, которая уже давно готова посреди стола на бѣлой скатерти съ узорами, отливающими въ нѣчто еще болѣе бѣлое. Ахъ… ахъ…
Вотъ и Але́ко. Какъ онъ мнѣ улыбается. Вотъ добрые и почтенные кавассы наши (наши, наши!.. не насмѣшка ли это теперь?) Вотъ мой черноглазый, круглолицый и румяный другъ Кольйо. Вотъ рыцарь мой съ копьемъ на зеленой шторѣ… Прощай, моя комнатка…
Вотъ раздались эти страшные, эти легкіе и твердые, эти столь знакомые, рѣзкіе шаги… Дверь отворилась…
— Здравствуй, Одиссей…
Руки не подалъ, и мы сѣли кушать…
Прошелъ еще день, прошло еще два дня… Все то же…
Восходъ солнца и молитва, рыцарь съ копьемъ, Але́ко и Кольйо, училище и трудъ упорный… потомъ завтракъ…
«Здравствуй, Одиссей!»
Потомъ — обѣдъ и вечеръ, ночь…
Иногда «прощай, Одиссей!»
Иногда и того нѣтъ.
Ни руки, ни выговора, ни гнѣва, ни улыбки, ни привѣтствія…
О! тайна, мучительная тайна… Кто мнѣ разгадаетъ тебя, прекрасный и убійственный сфинксъ великой Московіи!?
Къ кому пойти? кому открыться?..
Что́ замыслилъ онъ? Или было темно у дивана, и онъ ничего не видалъ… Нѣтъ! Это невозможно, свѣча горѣла близко, и было такъ свѣтло, что я видѣлъ, какъ выпадали изъ-подъ фески ея небольшія… самыя маленькія пряди волосъ… Ахъ, зачѣмъ, зачѣмъ эти волосики были такъ пагубны и милы…
Могъ ли онъ не видать, какъ она сидѣла, если я видѣлъ эти проклятыя кисточки Веліара! Видно — онъ рѣшилъ ждать до поры до времени… Видно, мнѣ рано или поздно, но придется возвратиться въ первобытное состояніе моего ничтожества!..
Жалкій, безпомощный райя, Одиссей — и только!.. Опять тебя могутъ турки оскорбить безнаказанно, избить, даже убить, какъ хотѣли они убить отца моего на Дунаѣ…
О Суццо, Александръ Суццо мой, о «необузданный» пѣвецъ свободы, котораго такъ высоко цѣнилъ даже самъ Несториди, не ты ли въ поэмѣ твоей, Александръ, такъ воскликнулъ: