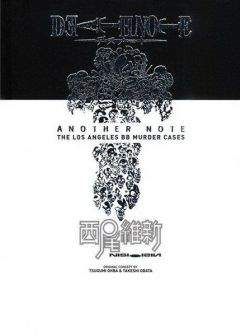Жалкій, безпомощный райя, Одиссей — и только!.. Опять тебя могутъ турки оскорбить безнаказанно, избить, даже убить, какъ хотѣли они убить отца моего на Дунаѣ…
О Суццо, Александръ Суццо мой, о «необузданный» пѣвецъ свободы, котораго такъ высоко цѣнилъ даже самъ Несториди, не ты ли въ поэмѣ твоей, Александръ, такъ воскликнулъ:
Столько слезъ должно и крови, и страданій, и побѣдъ
Цѣпью рабства завершиться!
Лучше всего было бы открыть сердце свое отцу Арсенію… Я и хотѣлъ это сдѣлать, но вотъ что́ случилось.
На второй изъ этихъ четырехъ дней тихаго и скучнаго томленія я забѣжалъ къ нему съ намѣреніемъ все разсказать, но старецъ охладилъ меня тѣмъ, что съ перваго слова спросилъ, съ проницающею строгостью взгляда:
— Ну, что́, какъ ты живешь въ великомъ свѣтѣ теперь? Иродіада все волнуется, все пляшетъ, все головы твоей требуетъ?..
Я отвѣтилъ почтительно, но сухо, и не рѣшился ни о чемъ ему говорить… Если онъ такъ подозрительно смотритъ за то только, что Иродіада пляшетъ, то что́ же онъ скажетъ, когда я сознаюсь ему, что я лобзалъ Иродіаду лобзаніемъ преступной любви…
Потупивъ очи, какъ подобаетъ у насъ смиренному отроку предъ старцемъ, я отвѣчалъ ему на всѣ его вопросы о политическихъ дѣлахъ, о здоровьѣ консула, объ отцѣ моемъ; но о горѣ и грѣхѣ своемъ не сказалъ ничего…
Встрѣтилъ я также въ тотъ же самый день и попа Ко́сту въ консульской залѣ. Онъ шелъ озабоченный, и хотя внизу ему сказали, что Благовъ заперся, занятъ и не велѣлъ никого принимать, но онъ не унывалъ и непремѣнно хотѣлъ его видѣть…
Онъ попросилъ меня доложить консулу; я отказался, и онъ, топнувъ ногой и скрипнувъ зубами, рѣшился подождать въ залѣ, чтобъ улучить минуту, когда можно будетъ сказать Благову два слова.
Онъ сталъ у окна и, заложивъ по обычаю своему руки въ карманы подрясника, вздыхая отъ нетерпѣнія, смотрѣлъ куда-то…
И я смотрѣлъ долго, но не на видъ изъ окна, а на самого попа Ко́сту, размышляя, что «вѣдь и онъ іерей, и хотя святый Янинскій и отнялъ у него приходъ за вмѣшательство въ неподобающія дѣла, но все-таки рукоположенія онъ не лишенъ и многоопытенъ въ жизни…»
Я подошелъ къ нему тихо и сказалъ ему робко:
— Отче, я имѣю нѣчто очень важное вамъ сообщить.
Попъ Ко́ста, съ изумленіемъ и досадой обратясь ко мнѣ, сказалъ:
— Важное дѣло? говори… Только говори скорѣе.
— Я хотѣлъ вамъ сказать, отче, что я родителями всегда былъ содержимъ въ удаленіи…
Попъ Ко́ста слегка еще разъ притопнулъ ногой, и очи его помрачились:
— Безъ многословія! — замѣтилъ онъ строго.
— Отче, я согрѣшилъ и теперь…
Попъ Ко́ста, почти съ презрѣніемъ окинувъ меня взоромъ, перебилъ меня быстро:
— Согрѣшилъ? Ну, что́ же? Согрѣшилъ — умолкни!
Я въ ужасѣ отступилъ отъ него.
— Да это Богъ Каину сказалъ: «Согрѣшилъ — умолкни!»
— Богъ Каину, а я тебѣ говорю. Не тумань, бре́, несчастный ты, головы моей… Имѣю дѣло! Стой (и онъ довольно ласково взялъ меня за одежду на груди моей и продолжалъ такъ:) — я уйду, а ты скажи консулу вотъ такъ: Былъ попъ Ко́ста; ждать не могъ и велѣлъ мнѣ передать вамъ, что правительство турецкое хочетъ замѣнить подать верги новою податью темету и что народъ недоволенъ. Темету будутъ взимать по оцѣнкѣ всего имущества и дохода. Богатые люди уже свои дѣла охлопотали, и наши діаволы-архонты (тутъ онъ радостно улыбнулся тому, что христіане въ Турціи такіе умные!) вѣрно, что-нибудь… Кто ихъ знаетъ (опятъ улыбка и знакъ пальцами, что деньги, взятки даютъ чиновникамъ туркамъ…) И беи, конечно… А бѣднымъ труднѣе темету, чѣмъ верги. И тутъ всего труднѣе простой туркарьѣ93, потому они, знаешь ты самъ, нуждаются. И это очень хорошо. Объясни, что именно турки-то бѣдные и простые хотятъ протестовать и противиться, а христіане и жиды съ ними заодно… Слышалъ, море́? Ну, прощай… будь здоровъ.
Я печально обѣщалъ передать. Попъ ушелъ; и какъ только я услыхалъ, что Благовъ отперъ свою дверь, то я тотчасъ же поспѣшилъ къ нему, полагая, что, можетъ быть, наединѣ наконецъ онъ мнѣ скажетъ что-нибудь и разрѣшитъ мои мучительныя сомнѣнія, хотя бы и убійственнымъ ударомъ, но разрѣшитъ ихъ.
Я вышелъ и, выслушавъ еще разъ все то же хладное: «Здравствуй!», началъ, какъ древній вѣрный вѣстникъ слово въ слово: «Былъ попъ Ко́ста и сказалъ, что»…
Благовъ, качаясь въ креслахъ, слушалъ меня съ величайшимъ вниманіемъ, и когда я кончилъ, онъ сказалъ:
— Хорошо. Какъ ты сказалъ? темету? Запиши вотъ на этой бумажкѣ латинскими буквами. Записалъ?
— Записалъ.
— Хорошо. Иди.
Ну, не адъ ли это?
Наконецъ мнѣ ужъ на третій день пришла мысль обратиться къ Кольйо.
Мнѣ показалось тогда, что онъ лучше всѣхъ людей постигнетъ мои чувства и дастъ мнѣ совѣтъ добрый, ибо онъ Благова знаетъ уже около года, и путешествовалъ вмѣстѣ съ нимъ, и въ Константинополѣ былъ, и… даже въ эту минуту я вспомнилъ одно обстоятельство, на которое прежде не обратилъ большого вниманія. Кавассъ Маноли еще прежде, глумясь надъ стыдливостью Кольйо, совѣтовалъ мнѣ при немъ же приподнять ему широкій рукавъ его албанской рубашки и поглядѣть, «что́ у него есть на рукѣ».
Я схватилъ тогда Кольйо за рукавъ, но онъ краснѣя сердито вырвался у меня и ушелъ, хлопнувъ дверью, а Маноли, смѣясь, уже безъ него прибавилъ: «Эротическія дѣла! Не смотри на него, что онъ смирный. Онъ манга94!..
Вотъ почему я подумалъ, что Кольйо можетъ болѣе, нежели кто-нибудь, быть мнѣ полезенъ, можетъ понять мои чувства и объяснитъ мнѣ, какъ мнѣ должно объяснять себѣ хладное молчаніе нашего господина и благодѣтеля.
Я сталъ искать Кольйо по всему дому и долго не находилъ его; наконецъ мнѣ сказали люди, смѣясь, что Кольйо очень огорченъ и сидитъ въ саду одинъ на камешкѣ у стѣны…
Что́ такое еще случилось?
Кольйо въ самомъ дѣлѣ сидѣлъ за стѣной дома въ саду, на камнѣ, въ уединенномъ мѣстѣ. Онъ плакалъ тихо и утиралъ слезы тѣмъ самымъ широкимъ албанскимъ рукавомъ своимъ, который скрывалъ его эротическую тайну…
Увидавъ это, я понялъ, что теперь не время мнѣ говорить ему о моихъ секретахъ и совѣщаться съ нимъ; я сѣлъ около него на другой камень и ласково спросилъ: «что́ случилось?..»
Онъ долго не смотрѣлъ на меня и долго не хотѣлъ отвѣчать, а потомъ сказалъ:
— Спроси у людей, они всѣ смѣются теперь надо мной!..
Я отвѣчалъ ему, что я ничего не знаю.
— Объ лампѣ… — сказалъ онъ наконецъ.
Случилось вотъ что́. Милый и честный Кольйо былъ очень недогадливъ и вмѣстѣ съ тѣмъ очень хотѣлъ быть тонкимъ человѣкомъ; отъ этого онъ безпрестанно дѣлалъ ошибки; къ тому же онъ былъ и неловокъ; довольно стройный, хотя и широкоплечій, онъ какъ-то умѣлъ быть еще шире, чѣмъ казался, цѣплялся безпрестанно за двери, шумѣлъ, стучалъ, ронялъ; пламенно стараясь услужить Благову и, обожая его, онъ забывалъ его привычки, не ставилъ ему туфли на ночь, не туда клалъ сигары, куда нужно. Усердствовалъ не въ мѣру; билъ вещи иногда и цѣнныя и, разбивъ, останавливался передъ консуломъ печально, а консулъ говорилъ ему спокойно:
— Старайся не бить!
И Кольйо уходилъ, еще больше испуганный и почти недовольный, пожимая плечами, почему это Благовъ не бранитъ и даже не бьетъ его за дѣло, когда слѣдуетъ бить и бранить… Когда бы хуже не было!..
Почти то же, что́ думалъ я въ эти дни, думалъ Кольйо всегда въ подобныхъ случаяхъ. Насчетъ лампы вотъ какъ было. Г. Благовъ привезъ изъ Константинополя дорогую и большую новую европейскую лампу, окрашенную зеленоватымъ цвѣтомъ древней бронзы. Кольйо, желая угодить и показать, что онъ русскій хлѣбъ не даромъ ѣстъ, взялъ ее внизъ и цѣлое утро чистилъ и скоблилъ ее всячески, до того, что она, наконецъ, стала желтенькая и заблистала какъ простая новая мѣдь. Онъ ее поставилъ на столъ и ушелъ. Вдругъ звонокъ. Благовъ стоитъ предъ лампой; около него два гостя — архонты, Бостанджи-Оглу и кавассъ Анастасій…
— Кто это сдѣлалъ, Кольйо? — спрашиваетъ консулъ.
Кольйо говоритъ весело, что онъ вычистилъ.
— Хорошо! — говоритъ консулъ. — Прекрасно! Чисто!..
И тогда всѣ начинаютъ громко смѣяться… Кольйо сначала смѣется самъ, озираясь на всѣхъ и еще не понимая, въ чемъ дѣло… Но одинъ изъ архонтовъ отечески говоритъ ему:
— Не надо дѣлать того, Николае, чего ты не знаешь… Эта краска, посредствомъ особаго тонкаго способа, нарочно для красоты наводится… Надо простить его безграмотности и варварству, господинъ консулъ…
А Благовъ говоритъ съ улыбкой:
— Я не сержусь… Мнѣ нравится это… Точно самоваръ русскій!..
И всѣ опять засмѣялись.
И сошелъ внизъ Кольйо, всѣ ему кричатъ, и Бостанджи-Оглу, и поваръ, и Маноли:
— Кольйо! Гдѣ самоваръ? Кольйо! Самоваръ ты видѣлъ, Кольйо?..
И, разсказывая мнѣ это, Кольйо мало-по-малу одушевлялся, печальное лицо его стало выражать энергическое отчаяніе, и онъ, наконецъ, воскликнулъ, вставая и ударяя себя въ грудь…