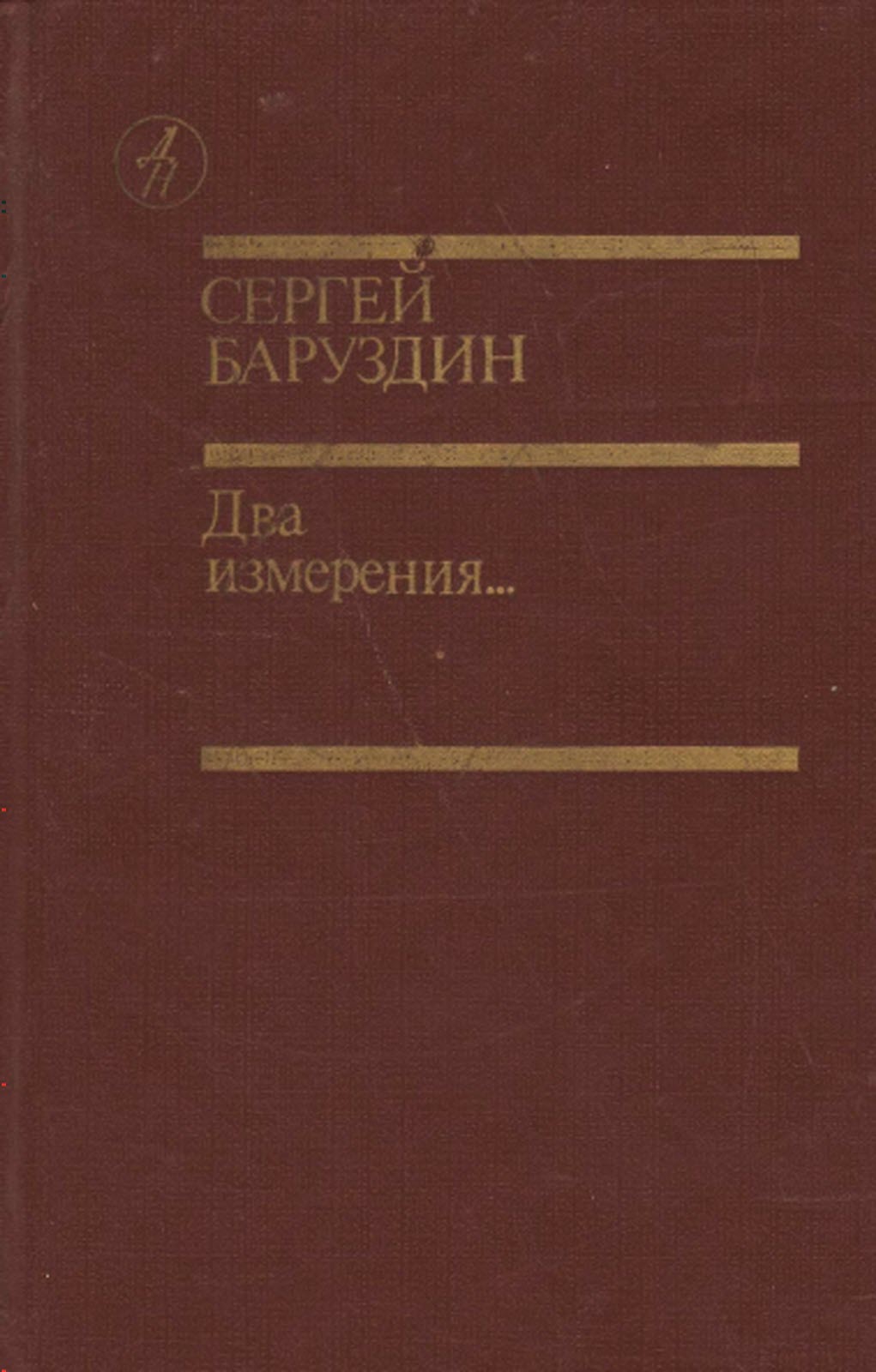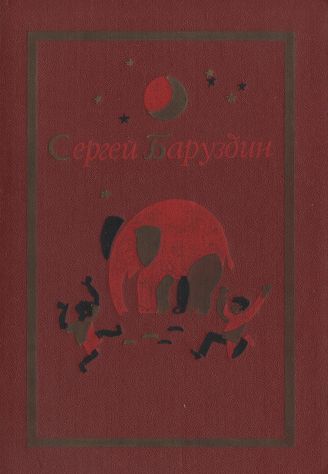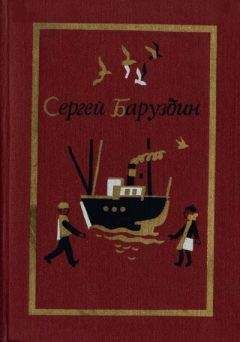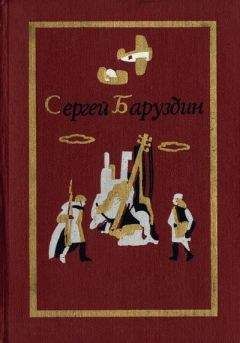мало, дорогие мои, не медицинского, а жизненного. И вот по секрету вам скажу; пятый выпуск сегодня наш в училище, а вспомню предыдущие: беда! Каждая вторая моя выпускница нормальной жизни себе не устроила. Будьте жалостливы к больным, внимательны, чутки, но по части доверчивости… Прошу ухо держать востро, а нос морковкой. Мы, дескать, тоже не лыком шиты, женщины! А у женщин, как бы сказал поэт, собственная гордость. Ведь это вы нас, мужиков, породили!
Может, Саша к Еремееву слишком жалостлива? А Лена? Саша увидела Еремеева только здесь. А Лена? Лена Михайлова тоже медичка, и для нее Еремеев не просто больной, а теперь вроде и не больной никакой, раз она не заходит к нему.
И у Саши получалось, что и с Леной сравнивать Еремеева трудно. Надо с кем-то другим, и лучше всего с мужчинами…
Она вспомнила Митю. Митя был умнее Еремеева. Наверно. Интеллигентнее? Тут Саша задумывалась. Как-то так повелось, что интеллигентов определяют сейчас по образованию. А по Сашиному разумению, ни Митя, ни она сама не были интеллигентами. Ну, какой она, к примеру, интеллигент в сравнении с Вячеславом Алексеевичем? И хотя Саша никогда никому не говорила об этом, и, может быть, тут нет никакого открытия особого, но она считала, что интеллигентность — это что-то чуть ли не врожденное, передающееся через эти самые гены, о которых рассказывал Вячеслав Алексеевич, из рода в род, из поколения в поколение.
Митя считал себя интеллигентом. Так он говорил ей как-то. Саша не знала его родителей и вообще ничего не знала о нем, потому что он не рассказывал. Но теперь? С того дня, как она ушла от него, он глупо ее преследовал и грозил, а Первого мая пришел к ней домой пьяный и такого наговорил, о чем даже вспоминать стыдно.
А солдат Еремеев? Интеллигент он или нет? Может, и нет, но он молчит, не спрашивает о Лене, хотя наверняка думает о ней. Значит, есть в нем что-то такое, чего нет в других, чего нет, может, и в самой Саше, — что она считает интеллигентным. Он не киномеханик, не врач, не поэт, не художник, но в чем-то он такой же, как Вячеслав Алексеевич.
— Саша!
Еремеев впервые назвал ее по имени.
Саша, кажется, даже растерялась.
— Сашенька, вы слышите меня? — полушепотом спросил Еремеев и взял ее за руку. А она почему-то вспомнила другие руки, которые так часто видела на операциях, при перевязках. На обходах странно было бы специально смотреть на руки Вячеслава Алексеевича, а в операционной и в перевязочной — там не было его, а были его руки, удивительные, живые, тонкие, все понимающие и чувствующие. И тут уже не руки были при нем, а он при этих руках, потому что руки выражали его, как это бывает у самых лучших художников.
Саша спохватилась, сказала, как и он, тихо, чтобы не слышали соседи по палате:
— Конечно, говорите!
— Вы не обижаетесь, что я вас так называю? — спросил он. — У меня сестренка младшая, тоже Саша, так я все стеснялся и думал, ну, как бы не испугать ее, что ли, когда вот такой одноглазый да и не очень здоровый вернусь…
Саша утешала его, утешали соседи по палате, но Еремеев перебил их:
— Я об окне, Саша. Что там за окном появилось? Видите, деревце?
За окном, а вернее, под окном, ночью появилась березка. И рядом еще две. Странно. Вчера вечером березок не было.
— Березки? — удивленно сказала Саша.
Вспомнила, у главного корпуса поликлиники такие же березки посадил Оганесян. Может, и это его работа?
Саша рассказала Еремееву, какой хороший человек их главный врач. Про березки у главного корпуса рассказала.
Пояснила:
— Я комсорг. Понимаете ли, комсорг? А мне и никому из нас даже в голову не пришло такое. А наш Акоп Христофорович каждый год по деревцу, по два-три сажает. Так, сам по себе. И это, конечно, он. Или сам, или поручил кому.
Березки, которые были видны из окна, еще только приживались. Тонкие, без листьев, с сухими, не набухшими еще почками, они и так были удивительны стройностью и белизной своей и какой-то необычной, почти по-человечески душевной открытостью. Одна веточка, самая тонкая, прикасалась к стеклу, чуть выше подоконника, и за ней, как показалось Саше, мелькнуло чье-то лицо.
Теперь Еремеев сжал ее руку так больно, что хрустнули пальцы, и Саша стерпела.
— Сашенька, — прошептал он.
— Что?
— Вы хорошая… Вы даже не знаете, какая вы… Хотите, я вам что-то скажу? Можно?
— Можно, — ответила Саша, радуясь тому, что Еремеев становится совсем другим.
— Хотите, чтобы я вас полюбил? — сказал Еремеев. — Так полюбил, что все вам будут завидовать? Я могу, поверьте, могу…
Саша съежилась, потом вдруг погладила руку Еремеева.
— Я знаю, — сказала она. — Я знаю, что вы ее любите… Ее! А меня не надо…
Саша продолжала говорить с Еремеевым, а сама, все поглядывала туда, в окно, и опять на минуту или секунду заметила лицо, узнала Лену, а возможно, ей это и почудилось, и Саша отвела взгляд от окна…
Еремеев огорчился, взял свою руку из ее рук, и тогда Саша привстала с его койки, наклонилась над ним так, чтобы не видели соседи, и осторожно поцеловала его в небритую щеку.
— Не надо! Хорошо? — шепнула она.
Солдат что-то пробурчал, будто извиняясь, но как раз в эту минуту открылась дверь, и в палату вошла Лена Михайлова. В руках у нее был букетик подснежников — белых и лиловых с маленькой веточкой нерас-пустившейся черемухи.
Она подошла к Саше и Еремееву, который растерялся, ничего не понимая, и Саша сказала:
— Молодец, что пришла.
И встала с кровати Еремеева, уступая место Лене.
— Я подменю тебя, — сказала Лена.
И больше ничего.
В мае, а особенно к концу его, страшные ураганные ветры обрушились на Подмосковье. Таких здесь еще не было, а может быть, о них просто забыли, а на памяти у всех были недавние зимние сообщения о песчаных и пыльных бурях на Кубани, Северном Кавказе и в Поволжье, уничтоживших озимые, и о других необычных затеях природы, которые все чаще и чаще поражали людей.
В маленьком городке люди укрепляли антенны, крепче привязывали только что посаженные яблони и вишни, к ночи укрывали чем попало огородные грядки и цветочные клумбы. А ветры продолжали буянить, завывая в трубах и звеня стеклами, врываясь на чердаки и в плохо прикрытые двери, ломая сухие ветки и слабую молодую листву, взметая пыль и песок. В такую погоду