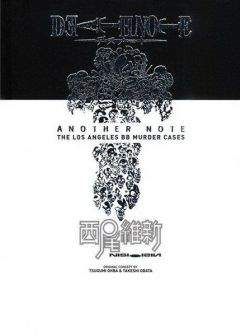Тогда Кольйо, поднявъ широкій рукавъ, обнажилъ до плеча свою сильную руку, и я увидалъ на смуглой кожѣ ея синюю елочку, или палочку, отъ которой шли въ стороны вѣточки. Это изображало непоколебимый кипарисъ; а внизу была тоже синяя меланхолическая подпись:
Ахъ! Вахъ!
День и ночь гуляю,
Все тебя не забываю!!.
— Видѣлъ? — спросилъ Кольйо, опуская рукавъ и краснѣя.
— Видѣлъ, — отвѣчалъ я, тоже отвращая взоры мои, чтобы не стѣснять его.
А Кольйо прибавилъ съ глубокимъ, глубокимъ вздохомъ:
— Что́ дѣлать! Всякій человѣкъ находитъ въ этихъ вещахъ свое удовольствіе.
Я сталъ просить его разсказать, что́ значитъ это воспоминаніе, разсказать мнѣ для нравственной пользы моей, но Кольйо рѣшительно отказался.
— Нѣтъ, Одиссей! нѣтъ! Не проси меня! Этого я сдѣлать не могу!
И онъ почти съ изступленіемъ прижалъ руку къ груди и, поднявъ глаза свои къ небу, воскликнулъ:
— Вотъ тебѣ Богъ мой! это невозможно… И ты оставь меня теперь…
Съ этими словами онъ поспѣшно удалился; а я, погоревавъ еще, пошелъ медленно наверхъ, думая: что-то будетъ!..
Но за обѣдомъ все внезапно и легко разрѣшилось само собой.
Г. Бакѣевъ собирался уѣзжать въ Арту и Превезу. Ему послѣ исторіи съ Бреше оставаться въ городѣ было тяжело, и Благовъ самъ, понимая это, далъ ему порученіе хлопотать тамъ о вознесеніи колокола на колокольню, перваго христіанскаго колокола въ эпирскомъ городѣ… Консулъ обѣщалъ ему прислать за нимъ нарочнаго гонца, если Бреше не получитъ предписаніе извиниться.
Но чрезъ этотъ отъѣздъ уменьшилось количество рукъ въ канцеляріи, и Благова это тревожило.
Разговаривая объ этомъ за обѣдомъ, онъ какъ-то пристально вглядывался нѣсколько времени въ меня и потомъ, обратясь къ Бостанджи-Оглу, спросилъ его, сколько будетъ листовъ въ статистикѣ, которую приготовилъ еще въ Загорахъ отецъ мой. Бостанджи-Оглу сказалъ, что очень много.
Тогда они разочли всѣ вмѣстѣ, и консулъ сказалъ:
— Съ завтрашняго дня ты, Бостанджи, начни переводить это по-французски; каждый день подавай мнѣ поправлять поутру, а вечеромъ Одиссей будетъ переписывать переводъ на хорошей депешной бумагѣ начисто… и будетъ опять мнѣ же на просмотръ приносить на слѣдующій день. Такъ мы всѣ будемъ заняты, и все скоро кончимъ.
Потомъ онъ спросилъ у меня, не будетъ ли этотъ трудъ мѣшать моимъ школьнымъ занятіямъ? Я сказалъ, что не помѣшаетъ нисколько, если число листовъ въ день не будетъ слишкомъ велико.
Тогда консулъ спросилъ:
— Будетъ ли Одиссею этой работы недѣли на двѣ?
— Будетъ на мѣсяцъ, — сказалъ Бостанджи-Оглу.
— И прекрасно! — сказалъ Благовъ. — Если хочешь, я тебѣ сегодня золотыхъ три за это казенныхъ впередъ дамъ, такъ какъ я тебѣ обѣщалъ.
Что́ мнѣ было сказать на эту высокоблагосклонную почтенно-пріятную рѣчь благодѣтеля!..
Я до того былъ пораженъ радостью, услыхавъ, что не только этими заботами о перепискѣ устраняется для меня всякая мысль объ изгнаніи изъ консульства, но напротивъ того, грозная туча, нависшая на моемъ горизонтѣ, неожиданно разрѣшается злато-плодотворнымъ дождемъ Данаи, — что я не могъ уже владѣть собой отъ порыва внезапной радости и, вскочивъ за обѣдомъ со стула, воскликнулъ:
— Я не нахожу словъ, чтобы выразить вамъ мою живѣйшую благодарность, сіятельный господинъ консулъ мой!..
Всѣ, и Благовъ, и Бакѣевъ, и Бостанджи-Оглу, и даже Кольйо засмѣялись…
Я, смущенный немного этимъ, но все-таки счастливый, сѣлъ опять; а г. Благовъ съ насмѣшливою улыбкой, оглядывая меня внимательно, замѣтилъ:
— Какъ деньги любитъ! Такъ его со стула даже кверху вдругъ подняло.
Опять смѣхъ, въ которомъ уже и я принялъ искреннее участіе…
Но мой смѣхъ былъ не тотъ смѣхъ, что́ у нихъ у всѣхъ; мой смѣхъ былъ трепетъ и хохотъ внутренняго праздника души моей…
На вторичномъ возвращеніи моемъ къ вечернему обѣду изъ школы, дѣйствительно, я нашелъ на столѣ моемъ нѣсколько черновыхъ листковъ статистики, переведенной Бостанджи-Оглу, очень разборчивымъ. Я обрадовался имъ какъ нѣкоему праву гражданства въ русской канцеляріи, убралъ ихъ и сѣлъ къ отворенному окну съ видомъ на обнаженныя высоты.
День былъ сухой, зимній день; ясный, веселый и теплый… Слышалось уже приближеніе ранней весны юга; травка въ саду все больше и больше зеленѣла, и снѣга недавняго не видно было и слѣдовъ.
Высоты, которыя темнѣли величаво за городомъ предъ окномъ моимъ, были наши же загорскія высоты. Темною стѣной онѣ начинаются тотчасъ же къ востоку за янинскимъ озеромъ и даже есть почти у самой вершины ихъ на склонѣ къ городу маленькое, очень маленькое загорское селеніе Линьядесъ. Бѣлые домики его и красноватыя черепичныя кровли были очень хорошо видны изъ консульскаго дома, и я каждое утро, вставая и творя молитву, глядѣлъ на нихъ, вспоминая съ чувствомъ, что дальше, дальше, за нѣсколькими такими высотами живутъ всѣ мои… Живетъ моя мать дорогая, и бабушка Евге́нко Стилова, и Константинъ нашъ работникъ хорошій живетъ, и Елена служанка наша, всѣ тѣ, которыхъ я съ дѣтства любилъ и которыхъ только однихъ я могъ любить безо всякой боязни, безъ колебаній и раскаянія.
Сегодня, когда душа моя вдругъ успокоилась и смягчилась отъ радости, что все мнѣ прощено, я смотрѣлъ на эти высоты еще съ бо́льшимъ чувствомъ. Онѣ краснѣли все болѣе и болѣе отъ заката, и я думалъ, что вѣрно и въ маленькомъ этомъ Линьядесѣ, котораго бѣлые домики такъ хорошо видны отсюда, теперь блещутъ стекла въ пурпурныхъ лучахъ заката такъ, какъ блистали они въ селѣ Джудила нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, когда, переѣзжая съ отцомъ въ Янину, я въ послѣдній разъ оглянулся назадъ. Такъ я думалъ, хотя этого я видѣть не могъ.
Я давалъ себѣ еще разъ слово быть благоразумнымъ, цѣломудреннымъ и трудолюбивымъ и напоминать себѣ постоянно, что отецъ мой старается и что у него болятъ глаза и некому будетъ чрезъ нѣсколько лѣтъ, кромѣ меня одного, быть опорой семьѣ…
Зельха́ была очень далека теперь отъ моихъ мыслей; мнѣ непріятно было даже вспомнить объ ней, какъ ребенку долго противно вспомнить о сладкомъ кушаньѣ, которымъ онъ неосторожно пресытился и тяжело занемогъ.
Въ такомъ созерцаніи засталъ меня Кольйо. Онъ вошелъ улыбаясь и сказалъ мнѣ тотчасъ же садясь:
— Я, Одиссей, перемѣнилъ мысли теперь… Такая прекрасная погода. Консула дома нѣтъ. Пойдемъ вмѣстѣ за городъ погулять. Тамъ я разскажу о себѣ кой-что… такое, что́ ты давеча спрашивалъ. Я хочу разсказать тебѣ, какъ на островѣ Іа́кинтѣ95 я видѣлъ на рукѣ у одного молодца-грека нарисованную даму въ платьѣ и съ букетомъ. И какъ нарисована! Какая живопись на кожѣ человѣческой! Какъ икона!.. Послушай… Вставай, пойдемъ…
Каково мнѣ было это слышать? Каково испытаніе мужеству? Я понималъ, что онъ издали съ этого острова Іа́кинта подкрадывался къ исторіи своего голубого кипариса, которую узнать я просто алкалъ…
Я понималъ къ тому же, что теперь за городомъ должно быть очень пріятно… Мнѣ представилась веселая зелень долины и одинъ домикъ около мощеной дороги направо, и вдали ханъ, и темная дубовая роща около монастыря Перистера, которую я очень любилъ. Съ Кольйо мнѣ всегда было весело… И воздухъ въ окно прилеталъ прохладный и душистый…
Но я превозмогъ себя и, подавляя глубокій вздохъ, сказалъ, обращаясь къ Кольйо:
— Нѣтъ, иди, Кольйо мой бѣдный, одинъ! а у меня теперь дѣло спѣшное есть… Не обидься, что я тебѣ отказываю! Прости мнѣ…
Кольйо сказалъ: «Пиши, пиши!» и ушелъ.
А я тотчасъ же сѣлъ за столъ мой и началъ чисто и крупно переписывать статистику съ величайшимъ терпѣніемъ…
И послѣ обѣда весь вечеръ и за полночь я писалъ и на другое утро отправилъ г. Благову такъ много и такъ хорошо написаннаго, что онъ съ Кольйо велѣлъ передать мнѣ тѣ три золотыхъ и сказать: Очень хорошо! прекрасно! благодарю!
Чего мнѣ было еще болѣе желать… Глупая любовь моя, казалось мнѣ, утекла совсѣмъ вмѣстѣ со снѣгомъ…
Прошелъ морозъ, прошла любовь. Морозъ еще вернется хоть на будущій годъ; неразуміе — никогда!..
Прочно лежитъ мой камень теперь у вершины горы, на которую водруженъ столъ Бостанджи-Оглу, покрытый зеленымъ сукномъ. О! гора моя, гора тучная, гора усыренная, надъ которой паритъ такъ всемощно двуглавый орелъ Гиперобойрейской державы…
Однако?.. Лучъ сомнѣнія…
Смотри, Одиссей, смотри ты, впрочемъ!.. Вѣдь все-таки ты не знаешь — видѣлъ ли онъ что-нибудь тогда на диванѣ, или ничего не видалъ…
Смотри ты… Берегись, злополучный!
Конечно, чувство мое къ «забавной турчанкѣ» было вовсе не глубоко и такъ противорѣчило всѣмъ правиламъ и началамъ, которыя я всосалъ съ молокомъ моей доброй и богобоязненной матери, что я не только не искалъ поддерживать его игрою фантазіи, но скорѣе стыдился его искренно и всячески радъ былъ подавить его въ сердцѣ моемъ.