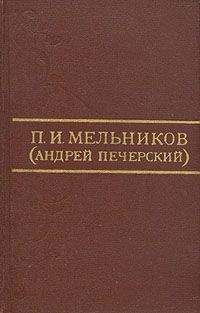— Затвердила сорока Якова! — перервал Пантелея Патап Максимыч. — Про Стуколова что знаешь?
— Мошенник он, либо целый разбойник, вот что я про него знаю. Недаром про Сибирь все расписывает… Не с каторги ль и к нам объявился?.. Погляди-ка на него хорошенько, рожа-то самая анафемская.
Ничего больше не добился Патап Максимыч. Но его то поразило, что Колышкин с Пантелеем, друг друга не зная, оба в одно слово: что один, то и другой.
Оставшись с глазу на глаз с Алексеем, Патап Максимыч подробно рассказал ему про свои похожденья во время поездки: и про Силантья лукерьинского, как тот ему золотой песок продавал, и про Колышкина, как он его испробовал, и про Стуколова с Дюковым, как они разругали Силантья за лишние его слова. Сказал Патап Максимыч и про отца Михаила, прибавив, что мошенники и такого божьего человека, как видно, хотят оплести.
— Вот что я вздумал, Алексеюшка. Управимся с горянщиной, отпразднуем праздник, пошлю я тебя в путь-дорогу. Поедешь ты спервоначалу в Комаров, там сестра у меня захворала, свезешь письмецо Марье Гавриловне Масляниковой, — купеческая вдова там у них проживает. Отдавши ей письмо, поезжай ты на Ветлугу в Красноярский скит, посылочку туда свезешь к отцу Михаилу да поговоришь с ним насчет этого дела… Ты у него сначала умненько повыпытай про Стуколова, старик он простой, расскажет, что знает. А потом и молви ему, что хотя, мол, песок и добротен и Патап-де Максимыч хотя Дюкову деньги и выдал, однако ж, мол, все-таки сумневается, потому что неладные слухи пошли… А насчет фальшивых денег не сразу говори, сперва умненько словечко закинь да и послушай, что старец станет отвечать… Коли в примету будет тебе, что ничего он не ведает, молви: «Жалеет, мол, тебя Патап Максимыч, боится, чтоб к ответу тебя не довели. В городу, мол, Зубкова купца в острог за фальшивы деньги посадили, а доставил-де ему те воровские деньги незнаемый молодец, сказался Красноярского скита послушником…» А Стуколова застанешь в скиту, лишнего с ним не говори… Да тебя учить нечего, парень ты смышленый, догадливый… Вот еще что!.. Будучи в скиту, огляди ты все хозяйство отца Михаила, он тебе все покажет, я уж ему наказывал, чтобы все показал. Есть, паренек, чему поучиться… Поучись, Алексеюшка, вперед пригодится… Да и мне, бог даст, на пользу будет… А воротишься, одну вещь скажу тебе… Ахнешь с радости… Ну, да что до поры поминать?.. После…
***
До праздника с работой управились… Горянщину на пристань свезли и погрузили ее в зимовавшие по затонам тихвинки и коломенки. Разделался Начал Максимыч с делами, как ему и не чаялось. И на мельницах работа хорошо сошла, муку тоже до праздника всю погрузили… С Низу письма получены: на суда кладчиков явилось довольно, а пшеницу в Баронске купили по цене сходной. Благодушествует Патап Максимыч, весело встречает великий праздник.
В велику субботу попросился Алексей домой — в Поромово.
Патап Максимыч слегка насупился, но отпустил его.
— А я было так думал, Алексеюшка, что ты у меня в семье праздник-от господень встретишь. Ведь я тебя как есть за своего почитаю, — ласково сказал он.
— Тятенька с мамынькой беспременно наказывали у них на празднике быть. Родительская воля, Патап Максимыч.
— Так оно, так, — молвил Патап Максимыч. — Про то ни слова. «Чти отца твоего и матерь твою» — господне слово!.. Хвалю, что родителей почитаешь… За это господь наградит тебя счастьем и богатством. Алексей вздохнул.
— Да, Алексеюшка, вот ноне великие дни. В эти дни праздное слово как молвить?.. — продолжал Патап Максимыч. — По душе скажу: не наградил меня бог сыном, а если б даровал такого, как ты, денно-нощно благодарил бы я создателя.
Робко взглянул Алексей на Патапа Максимыча, и краска сбежала с лица. Побледнел, как скатерть.
Такой же перед ним стоит, как в тот день, когда Алексей пришел рядиться. Так же светел ликом, таким же добром глаза у него светятся и кажутся Алексею очами родительскими… Так же любовно, так же заботно глядят на него. Но опять слышится Алексею, шепчет кто-то незнакомый: «От сего человека погибель твоя». Вихорево гнездо не помогло…
— Что ты?.. Аль неможется?.. — спросил Патап Максимыч.
— В красильне все утро был, угорел, надо быть, — едва внятно ответил Алексей.
— Эх, парень!.. Как же это ты? — заботливо сказал Патап Максимыч. — Пошел бы да прилег маленько, капусты кочанной к голове-то приложил бы, в уши-то мерзлой клюквы.
— Нет, уж я лучше, если будет ваше позволенье, домой побреду; на морозце угар-от выйдет, — сказал Алексей.
— Ну, как хочешь, — отвечал Патап Максиммч. — Да неужто тебя пешком пустить?.. Вели буланку запречь, отъезжай. Да теплей одевайся, теперь весна, снег сходит. Долго ль лихоманку нажить?
— Благодарю покорно, Патап Максимыч, — низко поклонясь, сказал Алексей. — Уж позвольте мне всю святую у тятеньки пробыть, — молвил Алексей.
— Всю неделю? — угрюмо спросил Патап Максимыч.
— Уж всю неделю позвольте, — отвечал Алексей.
— Ну, неча делать… Прощай, Алексеюшка, — вздохнув, промолвил Патап Максиммч.
— Счастливо оставаться…— низко кланяясь, сказал Алексей.
— Постой маленько, обожди… Я сейчас, — перервал его Патап Максимыч, выходя из горницы.
Алексей стоял, понурив голову. «Как же он ласков, как же милостив, душа так и льнет к нему… А страшно, страшно!..»
Воротился Патап Максимыч. Подойдя к Алексею, сказал:
— Похристосуемся. Завтра ведь не свидимся… Христос воскресе!
— Воистину Христос воскресе! — отвечал Алексей. Патап Максимыч крепко обнял его и трижды поцеловал, потом дал ему деревянное красное яйцо.
— Будешь дома христосоваться — вскрой — и вспомни про меня, старика. Слеза блеснула на глазах Патапа Максимыча.
— На празднике-то навести же, — сказал он. — Отцу с матерью кланяйся да молви — приезжали бы к нам попраздновать, познакомились бы мы с Трифоном Михайлычем, потолковали. Умных людей беседу люблю… Хотел завтра, ради великого дня, объявить тебе кое-что, да, видно, уж после…
Ушел Алексей, а Патап Максимыч сел у стола и опустил голову на руки.
***
Совсем захлопоталась Аксинья Захаровна. Глаз почти не смыкая после длинного «стоянья» великой субботы, отправленного в моленной при большом стеченье богомольцев, целый день в суетах бегала она по дому. То в стряпущую заглянет, хорошо ль куличи пекутся, то в моленной надо посмотреть, как Евпраксеюшка с Парашей лампады да иконы чистят, крепко ль вставляют в подсвешники ослопные свечи и достаточно ль чистых горшков для горячих углей и росного ладана они приготовили… Из моленной в боковушу к Насте забежит поглядеть, как она с Фленушкой крашены яйца по блюдам раскладывает. С ранней зари по всему дому беготня, суетня ни на минуту не стихала… Даже часы великой субботы Евпраксеюшка одна прочитала. Аксинья Захаровна только и забежала в моленну послушать паремью с припевом: «Славно бо прославися!..»
Стало смеркаться, все помаленьку успокоилось. Аксинья Захаровна всем была довольна… Везде удача, какой и не чаяла… В часовне иконы и лампады как жар горят, все выметено, прибрано, вычищено, скамьи коврами накрыты, на длинном столе, крытом камчатною скатертью, стоят фарфоровые блюда с красными яйцами, с белоснежною пасхой и пышными куличами: весь пол моленной густо усыпан можжевельником… Одна беда, попа не доспели, придется на такой великий праздник сиротскую службу отправить… В стряпущей тоже все удалось: пироги не подгорели, юха курячья с шафраном сварилась на удивленье, солонина с гусиными полотками под чабром вышла отличная, а индюшку рассольную да рябчиков под лимоны и кума Никитишна не лучше бы, пожалуй, сготовила. Благодушествует хозяюшка… И пошла было она к себе в боковушку, успокоиться до утрени, но, увидав Патапа Максимыча в раздумье, стала перед ним.
— Ты бы, Максимыч, прилег покуда, — молвила она. — Часок, другой, третий соснул бы до утрени-то.
Патап Максимыч поднял голову. Лицо его было ясно, радостно, а на глазах сверкала слеза. Не то грусть, не то сердечная забота виднелась на крутом высоком челе его.
— Присядь, старуха, посоветовать хочу. Ни слова не молвив, села Аксинья Захаровна возле мужа.
— Я все об Настёнке, — сказал он. — Что ни толкуй, пора ее под венец.
— Нашел время про скоромные дела говорить. Такие ли дни? — ответила Аксинья Захаровна.
— Не про худо говорю, — молвил Патап Максимыч. — Доброму слову всякий день место… Жениха подыскал…
— Кого еще?
— Да хоть бы Алексея, — молвил Патап Максимыч. Аксинья Захаровна всплеснула руками да так и застыла на месте.
— В уме ли ты, Максимыч? — вскрикнула она.
— А ты не верещи, как свинья под ножом… Ей говорят: «советовать хочу», а она верещать!.. — еще громче крикнул Патап Максимыч. — Услышать могут, помешать…— сдержанно прибавил он.