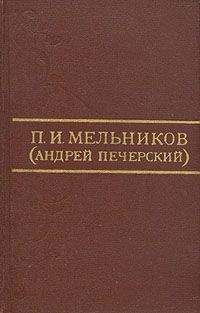— Все славу богу, — отвечала Аксинья Захаровна. — Ждали мы тебя, ждали и ждать перестали.. Придумать не могли, куда запропастился. Откуда теперь?
— Из Городца, — отвечал Патап Максимыч. — Вечор в Городце видел Матвея Корягу… Зазнался в попах… А ты бы, Захаровна, чайку поскорее велела собрать.
— Тотчас, тотчас, Максимыч, — захлопотала она, — мигом поспеет… А вам бы, девки, накрыть покамест стол-от да посуду поставить бы… Что без дела-то глаза пялить?..
Все принялись за работу.
— Пес его знает, как и в попы-то попал, — продолжал Патап Максимыч. — В Городце ноне мало в Корягу веруют и во все в это австрийское священство… Так я полагаю, что все это московских тузов одна пустая выдумка… Архиереев каких-то, пес их знает, насвятили? Нам бы хоть немудреного попика да беглого, и тем бы довольны остались. А они архиерея!.. Блажь одна — с жиру бесятся… Что нам с архиереями-то делать?.. Святости, что ли, прибудет от них, грешить меньше станем, что ли?.. Как же!.. По нашим местам московска затейка в ход не пойдет… Завелся вот Коряга, полугода не прошло, от часовни ему отказ как шест… у Войлошниковых теперь на дому службу справляют… Те пока принимают, ну и пусть их… А нам бы в Городецку часовню бегленького… С беглым-то не в пример поваднее… Перво дело — без просыпу пьян: хошь веревку вей из него, хошь щепу щепай… Другое дело — страху в нем больше, послушания… А Коряга и все, слышь, эти австрийские — капли в рот не берут, зато гордыбачить зачали… «У меня-де свой епископ, не вы, говорит, мужики, — он мне указ…» И задали мы Коряге указ: вон из часовни, чтоб духа его не было!.. Ну их к шуту совсем!..
— Как же мы страшную-то да пасху без попа будем? — унылым голосом спросила у мужа Аксинья Захаровна.
— А Евпраксея-то чем не поп?…Не справит разве? Чем она плоше Коряги?.. Дела своего мастерица, всяку службу не хуже попа сваляет… Опять же теперь у нас в дому две подпевалы, — сказал Патап Максимыч, указывая на дочерей. — Вели-ка, Настасья, Алексея ко мне кликнуть. Что нейдет до сей поры?
Настя чуть-чуть вспыхнула. Аксинья Захаровна ответила мужу:
— Дома нет его, Максимыч. Давеча говорил: надо ему в Марково да в Березовку зачем-то съездить…
— Ну, ин ладно, — сказал Патап Максимыч и зевнул, сидя в креслах. Дорога притомила его.
А встреча была что-то не похожа на прежние. Не прыгают дочери кругом отца, не заигрывают с ним утешными словами. Аксинья Захаровна вздыхает, глядит исподлобья. Сам Патап Максимыч то и дело зевает и чаем торопит…
— Матушка у нас захворала, — подгорюнясь, молвила Аксинья Захаровна.
— Что? — равнодушно спросил Патап Максимыч.
— Матушка Манефа больнешенька, — повторила Аксинья Захаровна.
— Нешто спасенной душе! Не помрет — отдышится! — отозвался Патап Максимыч. — Старого лесу кочерга! Скрипит, трещит, не сломится.
— Нет, Максимыч, не говори, — молвила Аксинья Захаровна. — Совсем помирает, лежит без памяти… А Марья-то Гавриловна!.. Греховодница эдакая, — примолвила старушка, всхлипывая. — Перед смертью-то старицу поганить вздумала: лекарь в Комарове живет, лечит матушку-то.
— Дело не худое, — молвил Патап Максимыч. — Лекарь больше вашей сестры разумеет…— И, немного помолчав, прибавил: — Спосылать бы туда, что там?
— И то я три раза Пантелея в обитель-то гоняла, — молвила Аксинья Захаровна. — На прошлой неделе в последний раз посылала: плоха, говорит, ровно свеча тает, ни рученькой, ни ноженькой двинуть не может.
— Кто возле нее? — спросил Патап Максимыч.
— Кому быть? — ответила Аксинья Захаровна, — знамо, дело обительское.
— Что смыслят эти обительские! — с досадой молвил Патап Максимыч. — Дура на дуре, наперед смерти всякого уморят… А эта егоза Фленушка, поди, чать, пляшет да скачет теперь без призора-то… Лекарь разве, да не сидит же он день и ночь у одра болящей.
— Не греши на Фленушку, Максимыч, — заступилась Аксинья Захаровна. — Девка с печали совсем ума решилась!.. Сам посуди, каково ей будет житье без матушки!.. Куда пойдет? Где голову приклонит?
— Гм-да! — промычал Патап Максимыч.
— Возле матушки больше Марья Гавриловна, — проговорила Аксинья Захаровна. — Всю обитель под ноготь подогнула… Мать Софию из кельи вытурила, ключи отобрала, других стариц к болящей тоже не пускает…
— И умно делает, — решил Патап Максимыч. — Спасибо!..
Хоть она толком позаботилась.
— Я было вздумала, Максимыч…— робко, нерешительно проговорила Аксинья Захаровна.
— Чего еще? — спросил Патап Максимыч, глядя в сторону.
— Да вот Настя пристает: отпусти да отпусти ее за матушкой поводиться.
— Ну? — спросил Патап Максимыч, поворотив к жене голову.
— Не посмела, батька, без тебя, — едва пропищала Аксинья Захаровна.
— Еще бы посмела! — молвил Патап Максимыч. — Прасковья, сползи в подклет, долго ль еще самовару-то ждать?
Параша пошла поспешней обыкновенного. Прыти прибыло, видит, что отец не то в сердцах, не то в досаде, аль просто недобрый стих нашел на него.
— Отпусти ты меня, тятенька, — тихо заговорила Настя, подойдя к отцу и наклоня голову на плечо его. — Походила б я за тетенькой и, если будет на то воля божия, закрыла б ей глаза на вечный покой… Без родных ведь лежит, одна-одинешенька, кругом чужие.
— Подумать надо, — сказал Патап Максимыч, слегка отводя рукой Настю. — Ну вот и самовар! Принеси-ка, Настя, там на окне у меня коньяку бутылка стояла, пуншику выпить с дороги-то…
Выкушал Патап Максимыч чашечку, выкушал другую, третью… Стал веселей, разговорчивей.
— Вот и отогрелся, — молвил он. — Налей-ка еще, Настенька. А знаешь ли, старуха? Ведь меня на Львов день волки чуть не заели?
— Полно ты!.. — всплеснув руками, вскрикнула Аксинья Захаровна.
— Совсем было поели и лошадей и нас всех, — сказал Патап Максимыч. — Сродясь столь великой стаи не видывал. Лесом ехали, и набралось этого зверя видимо-невидимо, не одна сотня, поди, набежала. Мы на месте стали… Вперед ехать страшно — разорвут… А волки кругом так и рыщут, так и прядают, да сядут перед нами и, глядя на нас, зубами так и щелкают… Думалось, совсем конец пришел…
— Как же отбились-то, как вам господь помог? — спросила побледневшая от мысли об опасности мужа Аксинья Захаровна.
— Отобьешься тут!.. Как же!.. — возразил Патап Максимыч. — Тут на каждого из нас, может, десятка по два зверья-то было… Стуколову спасибо — надоумил огонь разложить… Обложились кострами. На огонь зверь не идет — боится.
— Дай бог здоровья Якиму, как бишь его — Прохорыч, что ли, — набожно перекрестясь, сказала Аксинья Захаровна. — Как ему от всякого зла обороны не знать!.. Все страны произошел, всяких делов нагляделся, всего натерпелся.
— Мошенник! — сквозь зубы промолвил Патап Максимыч.
И жена и дочери смолкли, увидя, что он опять нахмурился. Мало погодя, Аксинья Захаровна спросила его:
— Чем же мошенник-от он? Кажись бы, добрый человек…
От писания сведущий, постный, смиренный… Много зол ради веры Христовой претерпел.
— Может, и кнутом дран, только не за Христа, — с досадой молвил Патап Максимыч.
— Как так, Максимыч? — придвигаясь к мужу, спросила Аксинья Захаровна.
— Не твоего ума дело, — отрезал Патап Максимыч. — У меня про Якимку слова никто не моги сказать… Помину чтоб про него не было… Ни дома меж себя, ни в людях никто заикаться не смей… Никто ни звука… Замолк и Патап Максимыч.
— Да, съели б меня волки, некому бы и гостинцев из городу вам привезти, — через несколько минут ласково молвил Патап Максимыч. — Девки!.. Тащите чемодан, что с медными гвоздями… Живей у меня… Не то осерчаю и гостинцев не дам.
Дочери побежали, хоть это и не больно привычно было обленившейся дома Параше.
— Пора бы девок-то под венец, — молвил Патап Максимыч, оставшись вдвоем с женой. — У Прасковьи пускай глаза жиром заплыли, не вдруг распознаешь, что в них написано, а погляди-ка на Настю… Мужа так и просит! Поди, чай, спит и видит…
— Да чтой-то с ума, что ли, ты сошел, Максимыч? На родных дочерей что плетет! — вскрикнула Аксинья Захаровна.
— Житейское дело, Аксинья Захаровна, — ухмыляясь, молвил Патап Максимыч. — Не клюковный сок, — кровь в девке ходит. Про себя вспомни-ка, какова в ее годы была. Тоже девятнадцатый шел, как со мной сошлась?
— Тьфу! — плюнула чуть не в самого Патапа Максимыча Аксинья Захаровна. — Бесстыжий!.. Поминать вздумал!.. Патап Максимыч только улыбался.
— А ты слушай-ка, Захаровна, — молвил он, — насчет Настасьи я кое-что вздумал…
— Снежков, что ль, опять?.. Чужим людям жену нагишом казать? — спросила Аксинья Захаровна.
— Ну его к шуту, твоего Снежкова! — ответил Патап Максимыч.
— Не мой, батюшка, не мой, — твое сокровище, твое изобретенье! — скороговоркой затростила Аксинья Захаровна. — Не вали с больной головы на здоровую!.. Я бы такого скомороха и на глаза себе близко не пустила… Твое, Максимыч, было желанье, твоим гостем гостил.