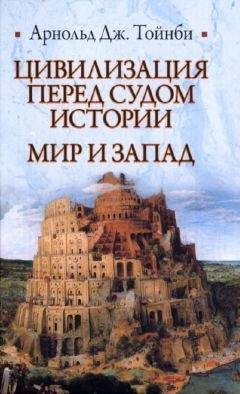увидел там свежих следов полозьев.
– Я лошадьми рисковать не хочу, – заявил он. – Тут уже несколько дней никто не ездил.
– Переправить гроб необходимо, – сказал Кай Швейгорд. – Понятно?
Возница кивнул, а потом отрицательно покачал головой.
Кай Швейгорд сказал, что в таком случае возчик и кормилица пусть идут в обход, а он сам проведет лошадей с гробом по льду. Если они провалятся, пусть возчик заберет себе четырех лучших лошадей из пасторской усадьбы, а кормилица может засвидетельствовать их договоренность.
– Но лед не провалится, – добавил Кай Швейгорд.
– Вам это точно известно? – спросил возчик.
– Я знаю, и все тут. Сегодня не провалится.
Кай Швейгорд взял Йеганса на руки, что-то спокойно прошептал ему и дал ходу лошадям. Полозья застревали в рыхлом месиве. На берегу остались кормилица с возницей, и когда они увидели, что сани благополучно пересекли озеро, то и сами отважились пройти по льду. Но Кай Швейгорд не стал дожидаться их. Он двинулся вверх по склонам, к пасторской усадьбе. Как и в тот день, когда увозили Герхарда Шёнауэра, собрался народ. Швейгорд отметил, что сельчане видят его насквозь и понимают, что он везет домой Астрид Хекне, и он подумал: вот она, правда, и ради Астрид ее нельзя скрывать, и Йеганса тоже нельзя скрывать. Он обнял ребенка покрепче, и тогда малыш вытянул ручку, будто хотел ухватиться за вожжи, но оказалось, что нет, он тянулся к Каю. Швейгорд сменил позу и взял ручонки мальчика в свою руку, и в это мгновение он выбрал свое будущее.
Все вокруг кивали ему и заглядывали в глаза, и он проникся уверенностью, что они хотят видеть его своим пастором и никто не собирается вставать ему поперек дороги. Он сумел выстроить свою жизнь, выстроить ее среди них. Ничто в этой жизни невозможно использовать во зло, и единственное, в чем его можно было упрекнуть, так это в том, что он влюбился.
Астрид Хекне была первой, с кем прощались в новой церкви, а Йеганс Хекне стал первым, кого в ней крестили. Возница уехал накануне вечером, и той зимой больше никто не пересекал озеро Лёснес на санях. Кормилица осталась. Это была пышущая здоровьем особа из Халдена. Кай Швейгорд велел горничной Брессум давать ей есть, сколько та захочет, и разместил их с Йегансом в хорошей спальне. Сразу по приезде он сам сходил на хутор Хекне и сообщил родным Астрид, что им предстоит похоронить дочь и крестить внука. Через несколько часов оттуда прислали гонца с известием, что родители Астрид против того, чтобы ребенка нарекли Йегансом, но Кай Швейгорд сказал, что такова была воля Астрид и Герхарда Шёнауэра, а значит, спорить тут не о чем.
Собственно говоря, Кай должен был только подтвердить крещение, но он разбудил кормилицу в пять утра; они пошли в церковь, где над мальчиком полностью совершили обряд крещения. Швейгорд также отслужил небольшую церемонию для невыжившего брата. За Эдгара он молился по-норвежски и по-немецки, доступными ему словами выразив печаль в связи с тем, что никто уже не узнает, как могла бы сложиться жизнь этого ребенка.
На следующий день Каю Швейгорду кусок в горло не лез.
Он похоронил Астрид на солнечном местечке возле новой церкви, прямо под скатом крыши, ронявшей капель, так что могилу питала вода, омывшая купол церкви, и согласно поверью, о котором она как-то рассказала ему, такая вода становилась святой. Произнося прощальное слово, Кай Швейгорд с трудом мог отделить себя как человека от себя как представителя церкви.
– Многим из нас будет недоставать Астрид Хекне, – начал он. – Бесконечно недоставать.
Он говорил о ней и о Герхарде Шёнауэре, о том, как прекрасно, когда двое любят друг друга, и ни единого раза не упомянул ни Бога, ни Христа, но повествовал о мужестве, выдержке и силе воли, а под конец собрался с силами и сказал:
– Астрид Хекне не первая и не последняя из умерших в родах. Она отправилась в Кристианию, веря, что врачи спасут ее и детей, которых она носила, но так далеко наш мир еще не продвинулся. За каждым крохотным шажком вперед, который делается человечеством, кто-то из людей не поспевает. Кому-то выпадает на долю разделить их участь; на этот раз это выпало на долю Астрид Хекне.
Его голос сорвался, и рыдание вернулось от стен эхом. Его взгляд упал на ее гроб, и он втянул в себя свежий лесной запах деревянной церкви, страшась того, что новые колокола не смогут звонить достаточно громко, чтобы заглушать скорбь.
Кай Швейгорд так и не попросил прощения за богохульство у тела Астрид Хекне. Он не стал ни главой епархии, ни епископом и отклонял все предложения о продвижении по службе. Зато он стал лучшим приходским священником из всех, что служили в Бутангене. Всю неделю напролет он трудился с восхода до заката, и редко случалось, чтобы сельчане, проходя поздно ночью мимо церковной усадьбы, не увидели света в кабинете пастора. Службы, подготовку к конфирмации, похороны и венчания он проводил в сдержанной и бесстрастной манере, скорее как управляющий, чем как проповедник. Все, что касалось жизни Бутангена, он отражал в церковных книгах строчку за строчкой. Из чернильницы он черпал и слова скорби, и слова радости; с его пера на бумагу переходили рождения, венчания и уход в мир иной. В Боге он все в большей степени видел ненавязчивого работодателя, с которым у него заключено двустороннее соглашение о том, чтобы он жил долго и продолжал служение без вмешательства со стороны. С Господом они сошлись в решении, что снова переговорят через сорок лет, и Швейгорд обещал испросить у Господа прощения, если окажется, что в смерти Астрид Хекне имелся смысл.
Следующим летом он заказал у двух плотников гребную лодку из крепкой еловой древесины, обшитую внакрой. Ее спустили в озеро Лёснес. Сельчане стали величать ее просто пасторской лодкой, и она стояла там с веслами наготове, причем Кай был уверен, что никто не воспользуется ею без спроса.
Он начал в одиночку ловить рыбу дорожкой, надолго выходя на своей лодке в озеро. Пребывая на природе, он находил в ней больше знаков единения с человеком, больший смысл, чем очерчено в Библии.
Деятельностью школьного учителя он остался недоволен, поэтому сам основал воскресную школу, в которой к Библии почти не обращались. Он учил детей правописанию, мировой истории, географии и иностранным языкам, а если его спрашивали, зачем он это делает, то отвечал, что, когда Бутанген станет частью