VII
Господин Каде Бланше больше не вникал в расходы по дому, потому что уже давно определил сумму, которую ежемесячно выдавал жене на жизнь, и сумма эта была так мала, что дальше некуда. Мадлена могла теперь, не раздражая мужа, во многом отказывать себе и время от времени давать знакомым беднякам малость дров, белья, супу, овощей, яиц и прочего. Ради ближнего она шла на все и, когда у нее не было средств, сама работала за бедняков, лишь бы помешать болезни или усталости свести их в могилу. Она была так бережлива, так старательно штопала свою одежду, что вчуже казалось, будто она живет в достатке; однако, не желая, чтобы домашние расплачивались за ее великодушие, она приучилась совсем мало есть, никогда не отдыхать и спать как можно меньше. Найденыш видел это и находил вполне естественным: и от природы и благодаря воспитанию, которое дала ему Мадлена, в нем развились те же наклонности и то же сознание долга, что у нее. Тем не менее он подчас тревожился, наблюдая, как изводится мельничиха, и корил себя за то, что слишком много спит и ест. Франсуа охотно согласился бы ночи напролет просиживать вместо нее за шитьем и пряжей, и когда она пробовала вручить ему его жалованье, мало-помалу выросшее почти до двадцати экю, он обижался и заставлял ее в тайне от мельника оставлять эти деньги себе.
— Будь жива моя мать Забелла, — твердил он, — мой заработок шел бы ей. Ну, скажите на милость, куда мне девать деньги? Нужды у меня в них нет: одежду вы мою чините, сабо мне покупаете. Поберегите их для тех, кто бедней меня. Вы и без того работаете на бедняков сверх всякой меры. А если будете мне платить, вам придется работать еще больше; если же вы занеможете и помрете, как моя бедная Забелла, какой мне будет прок от того, что у меня деньги в сундуке лежат? Разве они воскресят вас или помешают мне утопиться?
— Не смей и думать об этом, мой мальчик, — оборвала его Мадлена однажды, когда он, как случалось время от времени, вновь вернулся к этой мысли. — Христианину не пристало накладывать на себя руки, и если я помру, твой долг — пережить меня, чтобы утешить и поддержать моего Жанни. Ну, скажи, неужто ты этого не сделаешь?
— Сделаю, покуда Жанни еще мал и ему нужна моя забота. Но после!.. Не будем про это, госпожа Бланше. Тут из меня добрый христианин не получится. А если вы хотите, чтобы я жил на земле, не надрывайтесь и не помирайте.
— Успокойся, мне вовсе неохота помирать. Чувствую я себя хорошо, к труду привыкла и теперь даже крепче стала, чем в молодости.
— В молодости? — удивился Франсуа. — Выходит, вы уже не молодая?
Он струхнул, вообразив, что она достигла возраста, когда люди умирают.
— Да у меня и не было времени побыть молодой, — рассмеялась Мадлена с видом человека, умеющего подтрунить над своей неудачей. — Теперь мне двадцать пять, а это уже немало для женщины моего сложения, потому что я не уродилась таким крепышом, как ты, малыш, и у меня были горести, состарившие меня быстрее, чем годы.
— Горести? Боже мой, ну конечно! Я это заметил, еще когда господин Бланше бывал с вами так груб. Я, прости меня господи, человек не злой, но однажды, когда ваш муж замахнулся на вас… Ох, его счастье, что он вас не ударил; я уже схватился за цеп — правда, никто этого не заметил — и вот-вот кинулся бы на него. Но это дело давнее, госпожа Бланше; я, помнится, был тогда на целую голову ниже его, а нынче сам на него сверху вниз смотрю. Но теперь, когда он вам больше слова не говорит, вы, наверно, счастливы?
— Счастлива? Ты находишь? — чуточку возбужденно отозвалась Мадлена, подумав о том, что никогда не знала любви в браке. Но она тут же спохватилась: найденыша это не касается, а ей негоже говорить о таких вещах с ребенком. — Ты прав, — добавила она, — теперь я не несчастна. Живу я как хочу, муж стал со мной куда обходительней, сын растет здоровым, и жаловаться мне не на что.
— А я, значит, не в счет? Я…
— Ты тоже растешь здоровым, и я этому радуюсь.
— Может быть, не только этому?
— Да, не только. Ты хорошо ведешь себя, дурных мыслей в голове не держишь, и я тобой довольна.
— Ох, каким же негодяем, какой дрянью был бы я, будь вы недовольны мной после всего, что я от вас видел! Но есть еще одна вещь, которая помогла бы вам быть счастливой, рассуждай вы, как я.
— Так говори, что ты еще за штуку придумал, чтобы меня удивить.
— Никаких тут нет штук, госпожа Бланше. Мне просто довольно заглянуть себе в душу, чтобы понять: пусть меня заставят терпеть голод, жажду, зной, стужу, да еще каждый день бьют до полусмерти, да спать кладут на колючки или на камни, я все равно… Вы меня поняли?
— Кажется, да, милый мой Франсуа. Ты хотел сказать, что не боишься страданий, пока сердце твое в мире с господом.
— Само собой, это — первым делом. Но сказать я хотел другое.
— Тогда я ничего не понимаю. Сдается мне, ты стал хитрей меня.
— Нет, вовсе я не хитрый. А сказать я хотел вот что: выпади мне на долю все страдания, какие только терпит человек в здешней жизни, я все равно был бы счастлив, раз Мадлена Бланше привязана ко мне. Потому я и говорил: знай вы, что у меня в мыслях, вы бы решили — Франсуа любит меня так, что я счастлива жить на свете.
— А ведь ты прав, мой дорогой мальчик, — ответили Мадлена. — Иной раз ты такое скажешь, что заплакать хочется. Да, это правда: твоя любовь для меня — одна из радостей в жизни, может быть, самое лучшее в ней после… нет, не после, а наряду с любовью моего Жанни. Но ты старше его, лучше понимаешь мои слова и лучше умеешь высказать свои мысли. Так вот, уверяю тебя, мне с вами обоими никогда не скучно, и ныне я прошу у господа лишь одного — чтобы все подольше оставалось так, как сейчас, и мы трое жили, не разлучаясь, одной семьей.
— Еще бы, не разлучаясь! Да мне легче дать себя на куски изрезать, чем с вами расстаться! Разве кто-нибудь полюбит меня так, как вы? Кто, кроме вас, станет терпеть оскорбления ради бедного найденыша и называть его своим мальчиком, своим милым сыном? А ведь вы меня часто, почти всегда так и зовете. Больше того — иной раз, когда мы с вами наедине, вы говорите: «Зови меня не госпожой Бланше, а мамой». Я-то, конечно, не решаюсь — вдруг привыкну, и это имя сорвется у меня с языка при чужих.
— Ну и что за беда?
— А то, что вас этим попрекнут, я же не хочу, чтобы вас из-за меня обижали. Поверьте, я не гордый: мне вовсе не нужно, чтобы другие знали, что я для вас не просто найденыш. Я счастлив уже тем, что знаю: у меня есть мать, и я ее сын. Ох, только не помирайте, госпожа Бланше! — прибавил бедный Франсуа, печально глядя на нее, потому что последнее время его не покидали тревожные предчувствия. — Без вас у меня никого на земле не останется; и потом, вы, само собой, пойдете в рай господний, а я не уверен, что заслужил право попасть туда вместе с вами.
Слова и мысли Франсуа казались предвестием большой беды, и вскоре она действительно свалилась на него.
Теперь найденыш был уже работником при мельнице. Он разъезжал на лошади, забирал у крестьян зерно и сдавал им муку. По этой причине он часто совершал длинные поездки; нередко посещал он и любовницу Бланше, жившую неподалеку от мельницы. Бывать он у нее не любил и оставался там ровно столько времени, сколько надо, чтобы отмерить и взвесить зерно.
. . . . . . . . . . . .
Здесь рассказчица остановилась.
— Знаете, я что-то больно долго говорю, — сказала она внимавшим ей прихожанам. — А легкие у меня не те, что в пятнадцать лет, и думается мне, пора бы коноплянщику сменить меня: он ведь знает эту историю лучше, чем я. К тому же мы добрались до места, откуда я уже плохо помню, как все было.
— Знаю я, почему у вас вдруг на середине отшибло память, хотя вначале на нее грех было жаловаться, — усмехнулся коноплянщик. — Теперь дело оборачивается для найденыша худо, а вас это огорчает, потому что все вы, богомолки, трусливы, как курицы, чуть речь о любви заходит.
— Значит, все кончится любовью? — вставила присутствовавшая там Сильвина Куртиу.
— Ага! — возликовал коноплянщик. — Так и знал, что девицы ушки навострят, коли я это слово произнесу. Но потерпите: там, откуда начну я, чтобы довести рассказ до благополучного конца, речь еще не идет о том, что вам охота услышать. Так на чем вы остановились, матушка Моника?
— На любовнице Бланше.
— Так вот, — начал коноплянщик. — Звали эту женщину Северой[7], хотя имя это не очень-то ей подходило — ничего подобного у ней и в мыслях не было. Она была мастерица кружить головы людям, когда хотела посмотреть, какого цвета у них денежки. Не скажу, чтоб она была злая, потому как нравом отличалась веселым и беззаботным; но думала она только о себе, а до других ей не было дела, лишь бы ей самой жилось приятно и вольготно. Мужчины в наших краях частенько засматривались на нее, и, по слухам, слишком многие из них пришлись ей по душе. Женщина она была хоть и дородная, но еще очень красивая, обходительная, подвижная и свежая, как вишенка. На найденыша особенного внимания она не обращала, но, встречая его у себя на чердаке или во дворе, непременно отпускала какую-нибудь вольную шуточку — не по злобе, а так, чтобы посмеяться над ним и позабавиться, видя, как он краснеет, потому что, говоря с этой женщиной, Франсуа краснел, словно девушка, и ему становилось не по себе. Он считал, что нрав у нее наглый, и ему казалось, что она уродлива и зла, хотя на самом деле ни безобразием, ни злобностью она не отличалась; злость, по крайней мере закипала в ней лишь тогда, когда кто-нибудь задевал ее интересы или мешал ей покрасоваться больше того — давать она любила, пожалуй, не меньше, чем брать. Щедрой она была из тщеславия — ей нравилось, когда ее благодарят. Но, на взгляд найденыша, она была сущая чертовка, из-за которой госпожа Бланше вынуждена жить на гроши и надрываться над работой.
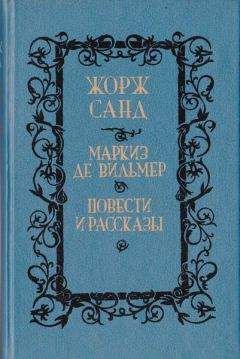
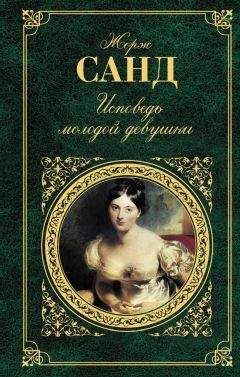


![Жорж Санд - Волынщики [современная орфография]](https://cdn.my-library.info/books/132604/132604.jpg)
