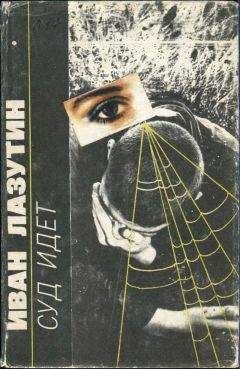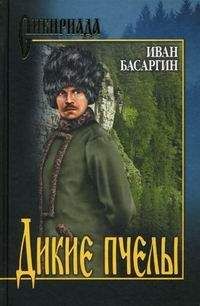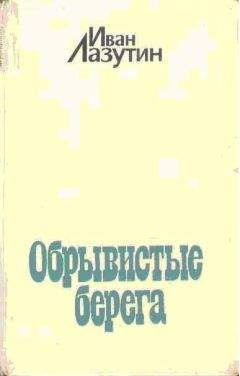— Будем говорить начистоту?
— Разумеется, — ответил Струмилин, озадаченный таким вопросом.
— Так вот, товарищ Струмилин, заберите свои документы, а рекомендацию уважаемого профессора Талызина оставьте себе на память. Пока забудьте, что на свете существует ординатура. Я говорю — пока!
Струмилин старался понять, куда клонит Самарин.
— Почему?
— С вашей биографией ординатура пока исключается. Только прошу вас об одном: наш разговор — не для протокола. Я мог бы принять от вас документы, проманежить вас несколько месяцев, заставить вас попотеть над экзаменами, и в результате все свелось бы к тому, что вы не прошли по конкурсу. Пожалейте себя и свое здоровье.
— Вы имеете в виду мой плен? — с затаенной обидой спросил Струмилин.
— Да, я имею в виду ваш плен. — Самарин вздохнул, достал из портсигара папиросу, долго, очень долго разминал ее и наконец прикурил. — Время… Время не на вас работает, товарищ Струмилин. Ваше счастье, что вы еще имеете место в хорошей клинике. И не где-нибудь в провинции, а в Москве.
На большом квадратном столе заведующего лежали папки с личными делами ординаторов. На стене висела инструкция, предостерегающая от заражения гриппом. В мраморном чернильном приборе уже давно высохли чернила, и заведующий писал авторучкой. От всего, что здесь окружало Струмилина, вдруг повеяло казенным холодом амбулаторного коридора, где тяжело больному человеку сказали, что врач, которого он ждал с таким волнением, срочно вылетел в другой город, а когда вернется — неизвестно.
— Это что — указание сверху? — спросил Струмилин.
— Да.
— Можно с ним познакомиться?
— Нет. Оно неписаное. Но это правило железное.
Самарин аккуратно отодвинул от себя документы Струмилина и занялся своим делом. Так прошла минута, другая, третья… Оба, Струмилин и заведующий ординатурой, молчали. Потом Самарин не выдержал и заговорил первым.
— А впрочем, я только дал вам совет. Можете документы оставить. Но я вам сказал честно, что вас ожидает. Вы только измучаетесь, и все впустую. Выбирайте.
— Я забираю документы, — твердо сказал Струмилин.
На улице стояла московская весна. Не было журчащих ручейков, не было проталин на лугах и косогорах, не слышалось звонкого щебета синиц. Была просто мартовская Москва, отсыревшая, залитая до самых маковок крыш солнцем. И лишь последние остатки снега, который грязными кучами лежал еще кое-где в глухих переулках, говорили, что зима нет-нет да и бросит свой прощальный взгляд на голые сучья продрогших рогатых тополей.
В памяти Струмилина проплыли обрывки того дня, когда он, раненый, вместе с полком попал в окружение, потом в плен. Он слабо помнил, как его подобрали, как привезли в немецкий госпиталь, как делали операцию, потом перевязку. Очнулся поздно ночью и долго не мог понять, где он и что с ним. Помнил только взрыв, сильный взрыв… А потом все поплыло кругом…
— Где я? — спросил Струмилин у медицинской сестры, которая поправляла повязку на ране.
— В немецком госпитале, — ответила полногрудая молодая женщина на немецком языке и как-то грустно-грустно посмотрела на Струмилина.
…Все это было давно, восемь лет назад. И вот теперь заведующий ординатурой сказал, что есть предписание сверху не принимать в ординатуру тех, кто раньше был в плену у немцев.
«К черту!.. К черту казнить себя воспоминаниями! Эдак можно сойти с ума». Струмилин ускорил шаг. Он изо всех сил пытался прогнать наплывы кошмарных картин немецких концлагерей, где ему пришлось пережить много тяжелых дней, когда один заветный маяк, одна звезда хранила его и звала к жизни — Родина.
— Родина!.. — произнес Струмилин.
Широко шагая и размахивая руками, Струмилин не обращал внимания на прохожих и вслух читал случайно подвернувшиеся на память строки из Есенина:
Это все, что зовем мы Родиной,
Это все, отчего на ней
Пьют и плачут в одно с непогодиной,
Дожидаясь улыбчивых дней…
В клинике Струмилина ждала операция. Только что привезли истекающего кровью шестнадцатилетнего подростка, упавшего с лесов на новостройке. С распоротым животом, в полном сознании, он лежал на операционном столе и смотрел на всех молящими, сухими глазами. Он не плакал. Он с трудом выговаривал пересохшими губами:
— Воды… Пить…
Но пить было нельзя, предстояла операция кишечной полости.
Струмилин чувствовал, как у него дрожали пальцы, как едкие капельки пота щипали веки, как сердце временами билось с перебоями. А большие ясные глаза подростка молили: «Спасите!»
Когда висевшая на волоске жизнь была спасена, когда после сорока минут борьбы за человеческую жизнь Струмилин почувствовал, что у него слабеют ноги и слегка кружится голова, он вышел из операционной, снял халат и сказал дежурному врачу, что плохо себя чувствует и уходит домой. В дверях его остановила старшая сестра и голосом, в котором прозвучала тревога, сообщила, что показательная операция профессора Батурлинова завтра утром не состоится.
— Почему?
О профессоре Батурлинове Струмилин много слышал и знал, что это весьма пунктуальный и точный старик. Он никогда ничего не переносил и не откладывал на следующий день.
— Он болен.
— Что с ним?
— Говорят, у него в семье несчастье.
— Какое несчастье?
— Внучку посадили. Говорят, что в тюрьме сейчас. Ну и слег старик.
— В тюрьме?! Что она сделала?
— Не знаю, не знаю…
На такси до дому езды двадцать минут. Струмилин спешил. Дома, в одном из старых блокнотов, записан телефон Лили. А в последнем письме, которое он сжег неделю назад, она очень просила позвонить ей. Но он не позвонил.
Боль, занозой сидевшая в сердце после разговора с Самариным, как-то сразу приутихла, ушла на второй план. «Лиля в тюрьме… Что с ней? За что?» — эти вопросы вставали перед ним тревожной загадкой. Струмилин пожалел, что так холоден, так жесток был по отношению к Лиле последние полгода. Вспомнил казенный ответ на ее теплое письмо, в котором она просила единственное — хоть иногда видеть его. «Это жестоко! Это даже предательски!..» — ругал себя Струмилин, поднимаясь по скрипучим, полуистлевшим от времени деревянным ступеням лестницы.
Найдя книжку, где был записан телефон Лили, он кинулся к телефону, но, натолкнувшись взглядом на соседку, которая из любопытства всегда готова была стоять на сквозняке, лишь бы подслушать телефонный разговор своего соседа, передумал и вышел на улицу, к автомату.
Набрал номер и попросил Лилю. Молодой, с хрипотцой голос ответил, что Лили нет дома.
— Где она?
— Она… Ее… — Голос в трубке осекся. — Кто ее спрашивает.
Струмилин догадался, что это была приходящая домработница Батурлиновых, он узнал ее по окающему владимирскому говорку.
— Вас беспокоит друг Лили. Скажите, в какой тюрьме она находится?
— В Таганской… А кто ее спрашивает?
Струмилин не давал опомниться домработнице:
— Скажите, пожалуйста, по каким дням разрешают в тюрьме свидание?
— А кто это спрашивает? — заладил одно и то же хрипловатый голос.
Струмилин так и не представился. Он поблагодарил домработницу и повесил трубку. Через Мосгорсправку он тут же соединился с коммутатором Таганской тюрьмы и узнал о днях и часах посещения заключенных. Сегодня вторник. Целые сутки ждать ему и томиться в догадках: за что посадили Лилю? Что ее ожидает? Что она могла сделать преступного?
Струмилин вернулся домой и попытался уснуть. Но уснуть не мог. То он вступал в мысленный диалог с розовощеким Самариным, который так глубоко его обидел, то он просил прощения у Лили. А когда думал о ней, то она почему-то представлялась ему такой, какой он видел ее в последний раз, когда шла она по переулку, — согбенная, несчастная.
«А может быть, и моя доля вины есть в том, что она сейчас находится в тюрьме?..»
На другой день рано утром Струмилин подходил к воротам Таганской тюрьмы. Никогда в жизни не приходилось ему иметь дело ни с тюрьмами, ни с уголовными преступниками. Концлагерь — совсем другое. Там, на чужбине, он был рабом, брошенным за колючую проволоку, в тифозные бараки. Брошен для того, чтобы умереть униженным, в неволе. Здесь — огромные кирпичные стены и узенькие зарешеченные окна, выходившие на веселые московские улицы, которые как бы дразнили своей вольностью и напоминали заключенному, что за стеной — просторный мир Москвы. Люди!.. Миллионы улыбающихся, счастливых, родных людей, которые говорят на твоем родном языке, дышат тем же воздухом, что и ты.
Струмилин волновался в ожидании предстоящего свидания, которое в порядке редчайшего исключения разрешил прокурор Богданов. «За что?!» — не выходило из его головы, и он терялся в смутных догадках.
Но вот, наконец, вышел белобрысый долговязый парень в солдатской форме и выкликнул его фамилию. Струмилин вошел в комнату, которая была местом свидания, и замер почти на самом пороге. «Неужели это она?!» — мелькнуло у него в голове. Там, у стены напротив, стояла женщина в полосатом байковом халате, который висел на ней мешковато. Бесцветные пепельные губы, бледно-желтые провалы щек и над всем этим — глаза. Большие, испуганные и удивленные, они смотрели из голубоватотемных провалов и словно спрашивали: «Что вам нужно?! Кто вы такой?»