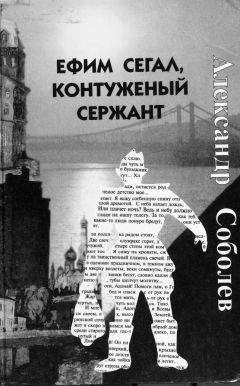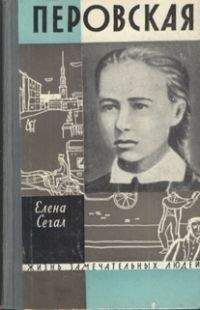Воцарилось молчание.
- Откуда вам известна история Губайдулина? - спросил Ефим.
- В основном, от него самого, сам выболтал. Раз как-то зашел ко мне в палату, вежливо осведомился, можно ли со мной потолковать, здесь-де он никогда ни с кем не говорит, потому что все дрянь людишки - психи, шваль. Признался, что нравлюсь ему, попросил разрешения открыть мне свою грешную душу, так и сказал: грешную душу. И выложил, как на духу, свою бандитско-уголовную биографию. Вы бы видели его тогда - глаза выкатились, кровью налились, голос сорвался, он завыл: «Прут они на меня, прут, живые, страшные, тянут руку к моему горлу: ты убил нас, Мустафа! Ты! Ты! Ты!» И представляете, Ефим, с ним тотчас случился один из его приступов, он его у себя спровоцировал своим рассказом. Он так заорал, что у меня волосы на голове зашевелились. Я сорвался с места и за санитарами... А сколько палачей, куда страшней Губайдулина, разгуливают на свободе по матушке Совдепии, творят черные дела и не спешат раскаиваться, живут припеваючи. Я... нет, потом... пока отдыхайте, вас, наверно, скоро к врачу пригласят. - И, устроившись на кровати, Володя принялся за чтение.
Лежа на спине с закрытыми глазами, Ефим и не пытался вздремнуть. Славный парень, думал он о Володе, похоже, раскусил и возлюбил по достоинству нашу великолепную действительность пораньше меня. Так вот каков оказывается Мустафа! Настигла ката Божья кара - спятил с ума! Поделом! Но если прикинуть с холодной головой, кто он? Всего лишь исполнитель, послушное орудие в руках палачей истинных, рангом раз в сто повыше. Какую же кару понесли те обер-убийцы? Насколько известно, никакую. Видно, у Мустафы, на самом донышке его черной душонки, все-таки притаилась крошечная толика совести. Она и сгубила Мустафу: заговорила и загнала в сумасшедший дом. Выходит, ни у великого вождя, ни у кого из его бесчисленной рати нет и микроскопической частички совести, значит, они хуже профессионального палача Губайдулина...
- Сегал, - раздался над Ефимом женский голос, - вас вызывает врач.
Ефим открыл глаза - перед ним уже знакомая медсестра. Он надел пижамную куртку, сунул ноги в тапки, последовал за сестрой в ординаторскую.
- Садитесь, Ефим Моисеевич, - пригласил улыбчивый мужчина лет тридцати пяти, - я ваш врач - Иван Петрович Канатчиков. - Он заметил немой вопрос на лице Ефима. - Нет-нет, я просто однофамилец... Что же, расскажите, пожалуйста, о себе, о своих родных и близких, о ваших занятиях, постарайтесь подоскональнее. Словом, выкладывайте все, как говорится, от Ромула до наших дней.
Вот уж чего сейчас не хотелось Ефиму! Мало сказать трудно - тошно ворошить в памяти пережитое: сомнения, страдания, прозрение, заблуждения. Да и непросто уложить жизнь в коротенький рассказ для ушей медика. Он долго молчал, обдумывая, как бы побезболезненнее для себя повести беседу.
- Жду, Ефим Моисеевич, или не знаете с чего начать?
- Вы правы.
- Странно. Вы - журналист, кому как не вам уметь излагать свои впечатления, наблюдения...
Внезапно Ефиму на ум пришла спасительная мысль.
- Доктор, вы можете избавить меня от долгой, очень тяжкой для меня исповеди.
- Каким образом?
- Думаю, что это несложно. Я уже имел несчастье попасть в эту больницу в августе 1944-го. Лечил меня Борис Наумович Котляр. Я ему тогда все выложил, как на духу. Зачем же повторяться? Ничего нового я не скажу.
- A-а! Значит, вы у нас уже однажды побывали? Понятно. Борис Наумович теперь здесь главный врач. Что ж, я затребую из архива историю вашей болезни, но кое-что придется дополнить - пять лет прошло. На что вы сейчас жалуетесь?
- Головные боли, бессонница, раздражительность. Все это следствие, а причина...
- Причина указана в направлении: травматическая энцефалопатия после тяжелой контузии.
- Если только это!
- Не совсем понимаю вас.
- У меня, доктор, болезнь социальная: конфликт с действительностью. Для таких индивидуумов, как я, условия жизни неподходящие - верховенство произвола и беззакония, надругательство над личностью.
Беспечность, улыбку как ветром сдуло с полного румяного лица Ивана Петровича. Он быстро встал, подошел к двери, приоткрыл ее, выглянул в коридор, запер дверь изнутри на ключ, вернулся на свое место, с недоверием и испугом посмотрел на пациента.
Ефим рассмеялся:
- Что, Иван Петрович, и в сумасшедшем доме есть все-слышащие уши? Вы тоже боитесь?
Канатчиков забегал глазами, как пойманный с поличным школяр, вымученно улыбнулся, покосился на свои наручные часы.
- Гм... Нам придется прервать беседу: через десять минуть совещание у главного, так что...
Придя в палату, Ефим увидел на тумбочке сверток и конверт. Надиным почерком на нем было написано: «Сегалу Е.М.». «Фима, родной, - писала Надя, - очень волнуюсь за тебя. Если можешь, черкни пару слов. Ничего не скрывай. Целую, Надя».
До чего же он обрадовался этой весточке!
- Внизу ждут вашего ответа, - сказал вошедший в палату Володя.
Не мешкая ни секунды, Ефим написал Наде сверхуспокоительное письмо.
- А как передать его жене? - спросил Володю.
- Давайте. - И, вернувшись минуты через две, доложил: - Все в порядке.
- Попируем? - предложил Ефим, распаковывая приношения Нади.
- Охотно! У меня от воскресной передачи тоже кое-что осталось.
Общими усилиями они собрали «роскошный стол»: полукопченая колбаса, кильки, сыр, сливочное масло, печенье, конфеты. Пир - так пир! Наполнили стаканы кипятком, чуть подкрашенным заваркой, чокнулись обжигающими руки стаканами: «Будем здоровы!»
Глядя на Володю, уписывающего все подряд, Ефим последовал его доброму примеру.
В палату вошла медсестра.
- Приятного аппетита, молодые люди! Я на минутку, сообщить Сегалу, что записку его жена получила. Мы ее насчет вас успокоили.
- Большущее спасибо, - сказал Ефим. - Да-а... - прибавил он, когда сестра ушла, - у нас в отделении не то, что в третьем, можно считать, полная демократия.
Володя с любопытством глянул на Ефима.
- А вам откуца известны порядки третьего? Это буйное отделение.
- Из рассказов одного моего приятеля. Он там побывал. - Ефим помолчал. - Ладно, не буду вам голову морочить: приятель тот - я, собственной персоной.
- Вы?! В буйном отделении?! - у Володи изумленно вытянулось лицо. - Полноте, чепуха какая-то!
- Не верите? Тогда слушайте. - И Ефим рассказал историю с Яшкой-кровопийцей.
- Мне тогда повезло, в кармане оказался документ о контузии. Поэтому мне и прописали пребывание под широким, добрым крылом доктора Бориса Наумовича Котляра.
- Бориса Наумовича? Так это же наше местное светило! Величина! Профессор! Я с ним немного знаком. Хороший человек.
- Да, - согласился Ефим, - дай ему Бог здоровья. Он спас меня, поставил на ноги, дал возможность еще раз вернуться в строй.
- А что было дальше?
- Дальше? Дальше последовала эпопея, которую сходу изложить просто невозможно. У нас, я предполагаю, времени впереди достаточно. Как-нибудь расскажу.
- Все же с этим Яшкой вы впоследствии виделись?
- Не только виделись. Я, признаться, имел определенную возможность насолить ему, когда работал в заводской многотиражке.
- Ну, и?..
- Эх, захлестнули меня дела да события! Закрутили, завертели. На заводе повстречались типажи поколоритнее Яшки, он перед ними ягненок... Хотя и не исключение в стане власть имущих, он, скорее, тоже плоть от их плоти, кость от кости. Поди-ка, оторви его от той плоти. Достань!
Володя опустил красивую чубатую голову, задумался. Когда поднял глаза - ахнул: Ефим лежал навзничь, открытыми, остановившимися глазами смотрел в какую-то точку мимо Володи. Щеки его побелели, губы что-то шептали.
Володя бросился за дежурным врачом...
Немало дней и ночей Ефим так и не обретал ясного сознания.
- Болезнь протекает своим чередом, - говорил Канатчиков, - ничего страшного.
Однажды в палату пришел Борис Наумович, Ефим узнал и не узнал своего старого друга.
- Крепко переутомились нервишки у Сегала, - сказал Борис Наумович, - вот и отдыхают, закон самосохранения действует, организм защищается. Все обойдется, парень стойкий, я его помню... Следите, чтобы спал.
...Настал день, когда Ефим пришел в себя окончательно. Назавтра Наде разрешили свидание с мужем. Больничный парикмахер накануне побрил, постриг его. Выглядел он спокойным, аккуратным, но очень бледным.
Тревогу, растерянность, радость - все выразило подвижное лицо Нади, когда она увидела Ефима. Оба побежали друг другу навстречу, обнялись. Не поцеловались. Этого они никогда на людях - по молчаливому сговору - не делали. Уселись на два свободных стула в углу коридора.
С чувством безмерной вины смотрел Ефим на родное, самое родное лицо на свете, прекрасное в своей чистоте и детскости, но сильно утомленное, озабоченное, похудевшее. Это он, только он виноват в страданиях жены. За какие грехи Господь послал бедной девочке-женщине такие испытания? Чем, когда, как сможет он искупить стопудовую вину перед ней?! Убить себя за это мало!