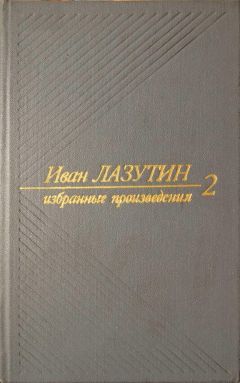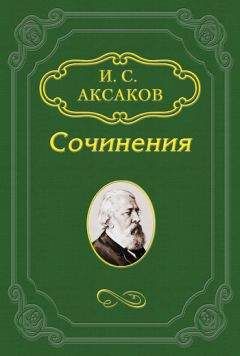— Странно, почему нет фамилии Инги? — спросил я Николая.
Судя по тому, как определенно ответил он на мой вопрос, мне стало понятно, что отсутствие фамилии Инги в списке рожениц Николая волновало еще утром, когда он приходил сюда без меня.
— Второй список вывесят вечером, а сейчас пока сообщают устно.
Мы просидели в приемной еще около часа.
За окном гремели трамваи. Дверь в тамбуре приемной так громко ударяла о косяки, что Николай всякий раз вздрагивал, словно удар этот холодным болезненным эхом вонзался в его грудь. Дверная пружина была сильная, я это заметил, когда мы входили в приемную роддома.
— Ты что нервничаешь? Поди, перед атакой под Ельней так жадно не курил?
Николай хотел что-то сказать, но ответ его был оборван на полуслове. В дверях, ведущих туда, откуда доносились пронзительные детские крики, появилась полная женщина в белом халате. Ей было далеко за пятьдесят. Я успел заметить выражение ее лица. Такое выражение глаз, такая улыбка могут вспыхивать не там, где люди умирают, а там, где они рождаются.
Понял я также, что это не врач и не медсестра, слишком деревенски-простоватым было ее лицо. Конечно, это была няня.
Выискивая кого-то глазами, няня спросила:
— Кго будет супруг Фокиной?
Это была фамилия Инги.
В руках Николая хрустнул спичечный коробок. Бледные губы его дрогнули в изломе.
— Я, — заикаясь, сипло ответил он.
Сын… — улыбчиво, с владимирской растяжкой проворковала няня и, обдав Николая ласковым взглядом, добавила: — Вылитый папаша…
— Спасибо… — глухо ответил Николай и, как от удара, склонил голову.
Как, очевидно, и полагается в таких случаях, няня предложила нам подождать еще с полчасика, после чего она сообщит о самочувствии оправившейся от родов матери.
Напряженный, с провалившимися от бессонницы глазами, Николай не переставал шагать по вытертой ковровой дорожке. Он не походил на тех сияющих классических папаш, которых показывают в кино, о которых пишут в газетах и журналах.
Длинными показались нам эти полчаса. Вначале я попытался было шутить, но Николай меня резко обрезал:
— Хватит трепаться!..
И снова, скрипя ремнями протеза, он шагал и шагал…
Но вот, кажется, вышли к нам. Три женщины в белых халатах. Почему их так много и почему они так многозначительно улыбаются, глядя на Николая? Одна из них, очевидно, акушерка. Рядом с ней — медицинская сестра. Я это понял сразу, когда они только вышли из родильного отделения. Уж что-что, а отличить врача от медсестры, а медсестру от няни бывший фронтовик, не раз валявшийся в госпиталях, может безошибочно. Впереди всех семеня сияющая нянечка, которая выходила к нам полчаса назад.
Румяная, уже немолодая акушерка, узнав в Николае папашу, принялась поздравлять его с дочерью.
— Как с дочерью? — Николай надсадливо кашлянул в кулак, в котором был зажат сплющенный спичечный коробок, и недоверчиво посмотрел на няню. — Вы же сказали… сын?..
— Сынок и дочка… Стало быть, двойня, гордитесь, папаша, — не переставая жать Николаю руку, поздравляла его акушерка.
Потом Снегирева поздравляли сестра и няня. И тоже долго трясли его руку, желая здоровья, счастья… Я стоял в сторонке и чуть ли не до крови кусал себе губы. Мне было и больно и смешно. Глядя на оторопевшее лицо новоиспеченного «отца» и слушая его нечленораздельное мычание, я насилу удержался, чтобы не расхохотаться на всю приемную.
Приступ холерического, неудержимого и бессмысленного смеха я не раз испытывал в раннем детстве, когда мы, братья, — а нас у отца с матерью было пятеро — разнокалиберной, голодраной ватагой садились за общий семейный стол и в самом начале обеда, когда еще только-только успевали, перегоняя друг друга и давясь, хлебнуть из общей чашки по две-три ложки щей, старший брат Лешка, с ехидцей и сердито опустив на стол глаза, вдруг потихоньку, так, чтоб не слышал отец, но слышали мы, младшие братья, произносил какое-нибудь заковыристое словечко… Фыркая щами и давясь от смеха, мы захлебывались не потому, что Лешка говорил что-то уж очень смешное, а оттого, что за малейшее баловство за столом строгий и не в меру религиозный отец крестил наши лбы своей крепкой деревянной ложкой.
Такой же приступ глупейшего, беспричинного нервного смеха я испытывал в минуты, когда передо мной стыдливо розовело поглупевшее лицо моего друга. На лбу Николая выступили мелкие капельки пота. Таким я его видел всего лишь один раз на экзаменах по римскому праву, когда из трех вопросов в билете об одном он имел смутное представление.
Уходя, акушерка велела подождать еще немного.
— Что ты смеешься как идиот? — Николай хлестнул меня взглядом, от которого мне стало не по себе. Я отошел к окну и мысленно рутал себя самыми последними словами.
Николай присел на чистенький деревянный диван и как-то сразу поник. Больше мы уже не разговаривали.
Высокая белая дверь на сильной стальной пружине по-прежнему с упругой оттяжкой била по дверным косякам тамбура, но Николай теперь уже не обращал внимания на эти удары. Казалось, что больше он их не слышал.
Посидев в приемной еще минут двадцать, мы, подумав, что о нас уже забыли, решили уходить. Но не успели дойти до двери, как услышали за своей спиной шум, который заставил нас обоих повернуться.
Из тех же дверей, откуда недавно выходили поздравить молодого папашу, выкатилась целая процессия. Она двигалась прямо на нас. Ее возглавлял высокий поджарый старик, которому белый халат еле доходил до колен. Как я узнал потом, это был заведующий родильным домом. Оглушая притихших посетителей своим зычным, с переливами басом, он еще издали, широко расставив руки, принялся поздравлять Николая:
— Великолепно!.. Голубчик!.. Это же восхитительно!.. — рокотал старик, положив свои длинные руки на плечи Николая. — Первая тройня за последние двадцать лет! Сегодня же, сейчас же… немедленно вызываем фоторепортера из «Огонька», и ваша семья будет красоваться на обложке двухмиллионным тиражом! Сын и две дочери!..
Николай очутился в кольце белых халатов. Сестры, няни, акушерки… В глазах его плавали белые халаты, широкие улыбки, приветливые взгляды… Даже канцелярские работники роддома, которых удивить не так-то легко, и те повскакали из-за столиков своей конторы, чтобы посмотреть на героя папашу.
Сейчас я уж, пожалуй, не помню отчетливо, как мы возвращались из родильного дома, но в памяти моей ярко запечатлелась одна деталь. Не успели мы отойти от больницы и пятидесяти метров, как Николай зашел в телефонную будку и позвонил в родильный дом. Справился, как чувствует себя Инга Фокина.
Нужно было видеть его счастливое, просветленное лицо, когда ему сообщили, что чувствует она себя хорошо. Детки тоже здоровы.
Слух о том, что у студентки филологического факультета родилась тройня, на второй же день облетел студенческий городок, взбудоражил членов профкома, в прямые обязанности которых входило экстренно помогать людям в счастливых и несчастных случаях.
Стояло промытое дождем и облитое июньским солнцем утро. Буйная листва лип на бульваре искрилась сверкающими, радужными капельками-блестками. На мокрых скамейках еще никто не сидел. Казалось, сама природа вспыхнула первозданной чистотой и тихим благословенным сиянием, чтобы заключить в свои материнские объятия трех граждан мира, которых бережно вынесли из родильного дома.
Нас было около пятидесяти человек. С филологического, с юридического, с философского, с исторического…
Из дворика родильного дома мы выкатили три совершенно одинаковые голубые детские коляски с новорожденными, завернутыми в одинаковые розовые одеяльца. Но стоило нам только добраться до улицы Горького, как наша колонна утроилась. Присоединились попутчики, любопытные…
Милиционер-регулировщик, вначале не разобравший, что это за демонстрация, на несколько минут перекрыл автомобильное движение на перекрестке и подозрительно долго смотрел вслед нашей процессии.
Коляски плыли торжественно, развернутой шеренгой. Среднюю мягко катил факультетский остряк и балагур Марк Сеньковский. Выпрямившись, словно он проглотил аршин, Сеньковский выполнял свою миссию подчеркнуто торжественно, не улыбаясь. Его коллеги справа и слева, во всем копируя «коренника», тоже двигались с лицами, на которых застыли маски священнодействия.
Перед университетом процессия па минуту остановилась: Инга решила перепеленать сына, который сучил около носа своими крошечными розоватыми кулачонками. Толпа разрасталась. К коляскам было невозможно подступиться.
Подарки и знаки внимания так неожиданно разросшемуся семейству Инги с колясок только начались. На четвертый день ЦК профсоюза высшей школы ходатайствовал перед Моссоветом о предоставлении Инге отдельной квартиры. А на пятый — мы с Николаем (все эти дни он не покидал Ингу) и еще с двумя студентами филологического факультета уже расставляли мебель в новенькой двухкомнатной квартире на Песчаной улице. Деньги на мебель выделил факультетский профком.