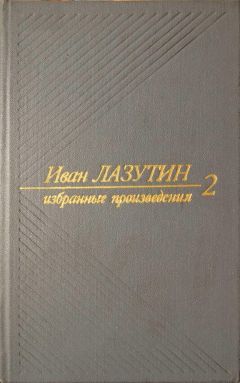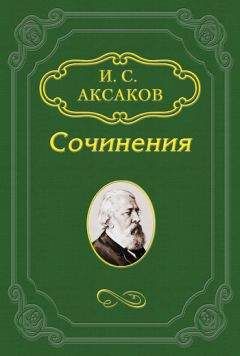Когда сыну Сереже исполнилось пять лет и я почувствовал, что мои отцовские обязанности еще более усложнились, в один прекрасный день у меня родилась дочь. В честь бабушки назвали Оксаной. За все эти шесть лет в Москве побывать так и не удалось. Летние отпуска проводил с семьей на Черноморском побережье.
Потом Министерство внешней торговли командировало меня на четыре года за границу.
Эти годы прошли в трудах и заботах. И вот я снова в столице!.. Десять лет прошло с тех пор, когда было брошено последнее «прощай» с Киевского вокзала.
Много разных дорог пришлось исколесить за последние три года, повидал не один десяток иностранных городов, но с таким трепетом не въезжал ни в один город.
Июльское солнце так раскалило московский асфальт, что тепло его чувствовалось даже через подошвы ботинок. Мою телеграмму Снегиревы, очевидно, не получили. На вокзал встречать не пришли.
…А через час серенькая «Волга» с шашечками на боках подкатила меня к знакомому семиэтажному дому на Песчаной улице. Дворик затянуло зеленью, газон пестрел мокрыми цветами, только что политыми из шланга дворником. Поднялся на четвертый этаж. Волнуюсь так, словно после долгой разлуки вернулся в родительский дом. На двери медная пластинка с броской надписью: «Н. В. Снегирев». А ведь когда-то был просто Колька. Даю короткие, даю длинные звонки — никто не выходит.
В домоуправлении сказали, что Снегиревы еще в мае выехали на дачу. А куда — адреса не оставили. Полчаса висел на телефоне, пока не разузнал в отделе кадров министерства адрес дачи Снегирева.
Пять часов. Суббота. Москву, как обычно, лихорадит.
С каждой минутой все сильнее и сильнее ощущаю этот кипучий ритм столицы.
Но вот и дача Снегиревых. Совсем новенькая, небольшая. Крылечко в петухах и завитушках, какие нередко можно увидеть на наличниках добротных изб в орловских и тамбовских селах.
Сад еще молоденький, но уже плодоносил. Видно по всему, что над ним потрудилась хозяйская рука. По траве, махая над головами марлевыми сачками, бегали две девочки, одетые в одинаковые коротенькие розовые платьица, с одинаковыми белыми бантами, вплетенными в русые косички, которые змейками трепыхались в воздухе. В конце участка, на лужайке у забора, голенастый крутоплечпй мальчуган в трусиках ожесточенно забивал в ворота (два воткнутых в землю кола) футбольный мяч. Он очень походил на Властовского: такой же лобастый, с упрямым подбородком. Девочки, по-прежнему не отличимые друг от друга, походили на Ингу.
В огуречной грядке, сгорбившись, копопшлась старуха, по-деревенски повязанная белым ситцевым платком. «Мать, наверное», — подумал я, остановившись у калитки и озираясь по сторонам — нет ли во дворе собаки.
— Вам кого? — спросила старуха, оторвав от грядки голову.
— Николая Васильевича. — По имени и отчеству своего друга я называю первый раз.
— Проходите, он у себя, у кабинети, — протяжным тамбовским говорком ответила старуха и, не разгибаясь, продолжала пристально рассматривать меня из-под ладони. Как видно, старуху насторожил увесистый заграничный чемодан.
Мое появление в доме Снегиревых вызвало переполох. Инга была так удивлена и обрадована, что с разлету, как девчонка, бросилась мне на шею и принялась звонко целовать на глазах у оторопевшего мужа. Признаться, я даже растерялся. Потом меня тискал в своих медвежьих объятиях Николай.
— Вот это здорово, черт возьми!.. Ну и молодец же, чертяка! Да мы с тобой такое сегодня закатим, что заборы будут танцевать!
Вертели, крутили, допрашивали…
Все-таки, как ни говори, а десять лет — не десять дней. В свои тридцать восемь лет Николай располнел и заметно постарел. Глубокие полуостровки залысин упорно наступали на поредевшую шевелюру, подчеркивай и без того высокий и красивый лоб.
Располнела и Инга.
Вечером отмечали мой приезд. Пили за дружбу, за веселье студенческих лет, за родителей, за детей… За что только не пили! Наташа и Аленка, которым месяц назад исполнилось десять лет, в этот вечер много танцевали. Обе они учились в балетной студии при Большом театре. Игорь, который во время танцев сестричек, всеми забытый и насупившийся, оставался без внимания, показал себя, когда очередь дошла до него. Из своей авиамодельной мастерской, которой служил ему чулан, он принес несколько моделей планеров и реечных самолетов. Не жалея, что они могут напороться на ветви яблонь и порвать тоненькую папиросную бумажку на крыльях, он распахнул настежь окна и, счастливо сверкая глазенками, плавными толчками направлял свои модели в сад. А когда, разгоряченный возгласами одобрения и аплодисментами, Игорь разошелся не на шутку, он решил утереть нос своим сестричкам-танцовщицам. До отказа закрутив резиновый тросик, служивший у реечной модели моторчиком, он встал на подоконник, победно окинул взглядом сидевших за столом и со счетом «раз, два, три!» пустил в ночное небо свой самолет. «Норовом вылитый Властовский», — подумал я.
…Легли поздно, хмельные от радости и вина.
У Снегиревых я прожил три дня. Все эти три дня Инга с утра до вечера кормила меня так, как будто я приехал с молотьбы.
Несколько раз я пытался спросить о Властовском: где он, что с ним, но все как-то не решался, считал, что упоминание о нем прозвучит разговором о веревке в доме повешенного. Но однажды вечером, когда длинные тени от яблонь уже заползали на дальний забор, мы трое, Николай, Инга и я, сидели на открытой веранде и вспоминали разные истории из студенческой жизни.
— Да, кстати, где сейчас Властовский? — неожиданно для всех спросил я и тут же пожалел об этом, заметив, как по лицу Инги проплыли серые тени. Вся она как-то сразу съежилась, потухла, улыбка на ее лице застыла в скорбной гримасе.
Николай молча посмотрел на меня и, поморщившись, покачал головой. «Что ты наделал!..» — прочитал я на его лице.
— У меня же на плите молоко поставлено, поди сбежало… — спохватилась Инга и поспешно вышла с веранды.
Николай придавил в пепельнице окурок и, осторожно подбирая слова, заговорил:
— Костя, прошу тебя, больше никогда при Инге не упоминай о Властовском. И вообще забудь о нем.
— Что, по-прежнему негодяй?
— Нет, тут все сложнее и горше…
Николай встал, подошел к барьеру террасы, оперся на него ладонью, ссутулился, стоя ко мне спиной, и начал рассказывать:
— Видишь, Костя, тут все не так просто. Помнишь, как по-воровски уехал он от Инги в самое тяжелое для нее время? Ведь он не прислал ей ни одного письма, кроме того, о котором… я тебе тогда еще говорил. Сколько слез пролила она в надежде, что он вернется!.. Сколько писем с мольбой летело в Одессу, но Одесса молчала. Последние три письма Инги вернулись назад с припиской на конверте, что адресат выбыл неизвестно куда. Как, по-твоему… — Николай резко повернулся ко мне и, глядя в упор, спросил: — Когда я стал мужем Инги?
Я пожал плечами.
— Ну, разумеется, как только переехал к ней.
— Ты глубоко ошибаешься. Год жизни в одной квартире с Ингой был для меня пыткой. Ты улыбаешься, а зря… Мне тогда было не до улыбок. Почти каждый день я видел ее слезы.
Пальцы Николая крупно дрожали, когда он разминал папиросу.
— Первый год нашей супружеской жизни я не смел к Инге прикоснуться. Несколько раз хотел уйти от нее — хотя сделать мне это было трудно, я люблю Ингу, — но она просила меня не бросать ее. Со временем Инга взяла себя в руки. Дети стали подрастать, потом пошли в школу. Они и сейчас не знают, что я им не родной отец. Казалось, все встало на свои места, о Властовском в доме забыли.
Николай отошел от барьера, сел к столу и, вытащив из портсигара вторую папироску, продолжал:
— Два года назад в Москве появился Властовский.
Его перевели в аппарат одного республиканского министерства. Ты ведь знал его хорошо, человек он был не без таланта, масштабный, хоть и порядочный негодяй. И вот однажды мы всем семейством гуляли по скверику и встретили Властовского. Он шел нам навстречу. По-прежнему красивый, стройный, но заметно постаревший. Видать, жизнь сбила с него гонор, обкатала… Когда он увидел детей, его словно передернуло всего. Я сделал вид, что не узнал его. Инга встретилась с ним взглядом. С того дня в доме нашем будто поселился какой-то невидимый человек. Каждую неделю по субботам Властовский приходил во дворик и издали любовался детьми. Потом ои познакомился с Игорем. Через Игоря приблизил к себе Наташу и Аленку. Приносил им конфеты, игрушки… Назвал себя дядей Ваней. С утра до вечера дети говорили только о дяде Ване. Властовский их покорил. Я видел, как день ото дня сохла Инга. О себе не говорю. Если бы был бог, то только он один мог бы видеть, что было у меня на душе. А однажды, это было год назад, Инга пришла домой в слезах и рухнула на постель. У нее был разговор с Властовским. Он ничего у нее не просил, просил только одного — прощения за свой старый грех и чтоб ему хоть изредка разрешали видеть детей… Инга запретила ему появляться во дворике, наговорила кучу оскорблений, назвала подлецом, негодяем… После этого он не появлялся пол-года, но дети его не забывали. А Игорь даже тосковал о нем. Прошлой осенью Властовский снова появился на Песчаной. Как вор, он поджидал детей по субботам у школы и оделял их гостинцами. Потом Инга запретила детям брать от дяди Вани подарки, стала их убеждать, что он плохой человек, что его нужно избегать… И дети стали сторониться Властовского. Гостинцы от него принимать не стали.