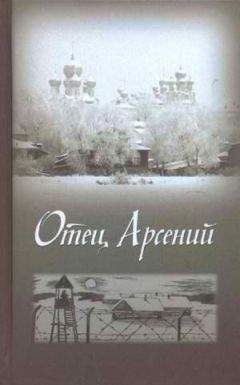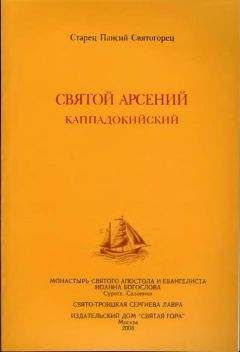Кстати сказать, я тоже должен был быть расстрелян 21 ноября, в день собора Архистратига Михаила. Утром после поверки конвой отвел меня к вахте (ворота при входе и выходе из лагеря), собрали человек двадцать пять, в основном священников, диаконов и одного епископа. Было морозно, конвой переминался с ноги на ногу, мы тоже мерзли, но стали петь «Достойно есть яко воистину…» и «Святый Боже…» Охрана молчала, понимая, что это последние наши слова перед смертью. Мы знали – нас поведут на расстрел в глубокий Воронин овраг, где расстреливали заключенных.
Прошло около часа, мы пели вполголоса. Вдруг прибежал военный и приказал выходить заключенным, номера которых стал выкликать. Назвал и мой номер. Вызвал пять человек и приказал: «Быстро по баракам». Остальных вывели за ворота, минут через пятнадцать раздался треск автоматных очередей. Почему меня вызвали из группы приговоренных? Не знаю. Была на то Господня воля.
Еще дважды, когда находился в лагерях, утром вызывали к вахте для расстрела, но после многочасового ожидания отправляли в барак или на работу. Пути Господни неисповедимы!
Второй раз меня вызвали 19 января 1943 г., в день Святого Богоявления – Крещения Господня, и в третий раз – 19 августа 1943 г. – в день Преображения Господня. Конечно, во всем было Господне произволение. Он отвел от меня смерть, и я сижу сейчас с вами; это чудо, дарованное мне, грешному!
Расстрелы в лагерях администрация называла «чисткой», и производились они почему-то часто накануне советских праздников. Со всех лагерных пунктов свозились к этим дням обреченные. Никому не зачитывали приговора, а вели к воротам, собирали группу заключенных, занесенных в список, и за воротами в оврагах расстреливали.
19 августа 1943 г., когда собрали у вахты заключенных и, как всегда, часа два мы уже стояли, вдруг один из обреченных засмеялся, вначале тихо, потом громче и громче. Смех был звонкий, радостный. Окружающие попытались его остановить, но безуспешно. Смех, нервный, заражающий, продолжался, засмеялись еще два-три человека. Я и другие молились. Вы знаете (обратился к нам о. Арсений), мне по-человечески стало страшно, охватила душевная боль за людей, которые через несколько минут умрут, а сейчас разрываются от смеха. Молился, осеняя себя и смеющихся крестным знамением, то же делали и другие. Слышал, что в группе были два епископа, которых я не знал, их привезли из дальних лагпунктов. Меня снова вызвали из расстрельной группы. Для чего трижды водили на расстрел и возвращали обратно в барак – не знаю. Запугать? Но режим лагеря был равноценен расстрелу.
Мне довелось быть свидетелем чудесных явлений и действий, совершаемых глубоко духовными людьми, прошедшими долгий путь молитвенного подвига, творения добра и высокого пастырского служения. Живя рядом с ними, получал от них благодать, учился молиться и пытался хотя бы в малой степени быть таким, какими были они.
Постоянно стоит передо мной небольшого роста старенький сельский иерей – о. Иларион, в монашестве Иоанн, с добрым лицом, живыми глазами, длинной белой бородой. Почти два года прожил я в северном селе Архангельской области. Село было большое, на горе стояла древняя деревянная церковь удивительной красоты, старого северного архитектурного благолепия, с одним куполом над церковью и вторым – над небольшой колокольней. Купола были покрыты осиновой щепой и, в зависимости от солнечного освещения, принимали то золотистый, то серовато-серебристый цвет. Церковь была старинной, но еще крепкой. Входя в нее, невольно поражался обилию икон, развешенных на стенах, слегка потемневших, но с ясно видимыми ликами святых. Всегда горело несколько лампад, было довольно темно, и, войдя, человек невольно погружался в молитвенное состояние отрешенности от окружающего мира, его суетности. Чистота в церкви была необычайная, свечи горели только восковые, из города свечей не привозили. Изготавливал их причетник, молодой человек, всегда прислуживавший в храме. Хор состоял из пяти–шести женщин, был строен и хорошо слажен. Прихожан по воскресеньям и праздничным дням приходило по пятьдесят–шестьдесят человек, и не только стариков и старух, но и молодых.
Служил о. Иларион точно по уставу, но служил как-то особенно, полностью овладевая вниманием молящихся, делая их участниками богослужения. Молитвы «Верую», «Отче наш», «Иже херувимы» прихожане пели в едином духовном порыве, с огромным восторгом. В воскресные и праздничные дни после неторопливой исповеди к причастной чаше подходили 12–15 прихожан. Для сельской церкви это было много. Церковного вина не было, и о. Иларион (крестьяне звали его «Ларион») приготавливал его из сока малины, клюквы и меда и все время сокрушался: «Господи! Ты сказал – от плода виноградного, а я что делаю? Простит ли мне это Господь?»
Первое время я не мог постичь, почему так внимательно и благочестиво слушают прихожане службу. Я сослужил в московских храмах с иереями большой внутренней духовности, но такое понимание и вхождение в богослужение видел редко. Однажды, захваченный служением о. Илариона, понял, постиг – он служил вместе с народом и как бы в народе, он не отделялся во время служения от прихожан, он был с ними и в них, поэтому особая благодать Господа осеняла и соединяла молящихся. Примерно шестьдесят лет после окончания Архангельской семинарии служил он ежедневно в этом храме Святой Троицы, говорил краткие проповеди нравственного содержания (хотя в те годы, когда я жил в селе, проповеди запрещали) – шестьдесят лет ежедневного безотказного общения с прихожанами. За советом, наставлением, примирением жители села и окрестных деревень шли к нему.
В селе любили и уважали о. Илариона, помогали, чем могли, и церкви. Сам о. Иларион жил бедно, ухаживала за ним древняя бабушка Ольга; дом сверкал чистотой, иконы во множестве висели по стенам, в основном старинного вологодского и устюжского письма, очень тонкой работы, но были и удивительно примитивного письма, редко встречающиеся. Засушенные цветы, разного рода травы наполняли дом необыкновенным запахом, к которому примешивался запах воска. Книг на полках лежало немного. Жена о. Илариона умерла двадцать лет тому назад, кажется, в 1918 г.; в 1923 г., через пять лет после ее кончины, с разрешения правящего архиерея он принял монашеский постриг с именем Иоанн. Постриг был тайный, поэтому для прихожан он по-прежнему остался о. Иларионом, никто не знал, что он принял монашество. Только через год он сказал мне об этом. У него было двое детей: сын Борис, убитый в первую мировую войну, и дочь Ксения, умершая в 1925 г. Осталась внучка, ставшая врачом и вышедшая замуж также за врача. Раз в год они приезжали к о. Илариону, заботились о нем и всегда просили и убеждали уехать к ним в Ярославль, говоря, что ему много лет и пора на покой. При одном таком разговоре присутствовал и я. Отец Иларион на все уговоры отвечал только одно: «Господь призвал меня в село, здесь хочу окончить дни свои в храме Святой Троицы. Прихожан, с душой моей связанных, не оставлю». Отцу Илариону к моменту появления моего в селе исполнилось восемьдесят лет, но был он подвижен, энергичен, скор на любое дело, плотничал, столярничал, водил пчел. Изредка выезжал на требы в окрестные деревни и скорбел, что в эти дни службу в храме не совершал.
Я подробно рассказываю об о. Иларионе, потому что видел его службы, отношение к прихожанам, полное растворение в подвиге, глубокой вере и любви к Богу и людям. Это был настоящий старец, облеченный Господом за свою подвижническую жизнь даром прозорливости и исцеления духовно и телесно страждущих. Я был духовным сыном Оптинских старцев о. Нектария и о. Анатолия, встречался со старцем о. Алексеем Мечевым, епископом Варфоломеем (Ремовым) и многими выдающимися в духовном отношении иереями и владыками и считаю, что о. Иларион достойно сравним с этими великими подвижниками. Я отчетливо понимал недосягаемую для меня силу их веры и духовного подвига.
Удивляло, что в отдаленном селе простой сельский священник ежедневным служением в церкви в продолжение шестидесяти лет, постоянной духовной работой над собой и молитвой достиг высокого духовного совершенства. Благодарю Господа, что Он разрешил мне увидеть этого подвижника, пройти с ним хотя и короткий, но давший силы и научивший общению с людьми путь, что помогло в дальнейшем в малой мере помогать людям, окружавшим меня.
Власти запретили мне посещать церковь в селе, но удалось тайно совершить с о. Иларионом несколько литургий и вечерами постоянно молиться с ним в его доме, тоже тайно. Несколько раз я был свидетелем совершенных им исцелений людей, пораженных запущенными раковыми опухолями, умиравших от крупозного воспаления легких, пораженных инсультом, водянкой, другими болезнями. Люди избавлялись от смерти, вставали и начинали работать. В церкви была чудотворная икона «Знамение» Божией Матери Новгородская (празднование 10 декабря). Приходя к больному, о. Иларион полагал икону на него, долго и проникновенно молился и помазывал елеем, кропил святой водой и возлагал руки. Молясь, призывал помощь Божией Матери и святого, именем которого был наречен исцеляемый.