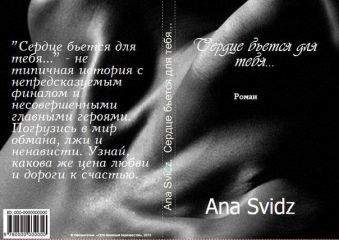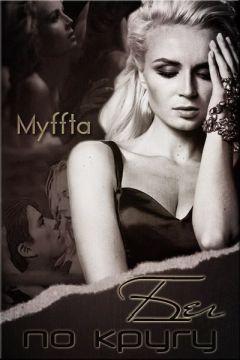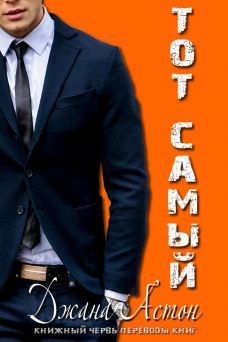Вторым нас посетил Доктор Коля. Наш филатовский доктор. Тот самый, который когда-то спас Антошкин палец.
В ту осень мы ездили, ездили с этим несчастным пальцем в травмапункт, целый месяц… И подружились с нашим Доктором. На всю жизнь. (Теперь уже ясно, что на всю).
Доктор Коля и Юмих – два ангела-хранителя нашей семьи. То, что мы с Иксиком более-менее благополучно прошли через горнило совкового роддома – спасибо Доктору. Это он определил нас туда, где не совсем, не окончательно безнадёжно. Конечно, и там, в хвалёном заведении, было жутковато (куда от этой совковой жути убежишь?), но была всё же и надежда: не дадут пропасть.
МОЖЕТ БЫТЬ…
– Дайте, дайте повозиться с ребёнком! – умоляет Коля. – Сто лет не пеленал маленьких девочек.
– Ну, так уж сто? Младшей-то всего пять.
– Ой, ребята, так быстро забывается… Ну, дайте же! Да не бойтесь: не сломаю вашу куклу.
Он, детский хирург-травматолог, обращался с нашим сокровищем весело и уверенно, крутил-вертел, как хотел, я только охала, а он хохотал на мои охи. А потом и вовсе выставил меня, слабонервную, из комнаты. И там, за закрытыми дверьми, два бесстрашных мужчины занялись Ксюшиным пупочком. Вернее – кровоточащей и гноящейся ранкой на том месте, где когда-то (только через месяц!) образуется хорошенький пупок. А пока – больно смотреть и страшно прикоснуться.
Филатовский доктор учил папу быть Ксюшиным доктором.
…А когда Ксюня уснула, мы сидели и пили чай. (Ничего себе: уже гостей принимаем! А ведь нам только десять дней.) И вы с Доктором опять заспорили. Уже много лет длится ваш спор и конца ему не видно. А начинается он всегда с одной и той же фразы Доктора:
– Вы же знаете, ребята, что я – материалист.
На это можно только расхохотаться. Действительно, что может быть смешнее, чем это заявление из уст нашего Доктора?
Доктор смотрит на нас с хитроватой улыбкой, ждёт, когда мы отсмеёмся…
А я думаю: “Если бы мир был сплошь из таких материалистов, как Доктор и Юмих, он был бы идеально устроен!”
* * *
Приезжала Анюта. Познакомилась с сестрёнкой. Послушала её отчаянный плач…
Потом папа укачивал страдающего Иксика, Иксик лежал щекой на папиной ладони… Анюта взяла лист бумаги, карандаш и быстро-быстро зарисовала: крошечный Иксик на папиной руке – как воробушек на ветке дерева…
Такой прекрасной наша комната ещё никогда не была!
Наша “многокомнатная” квартира. Пёстрый занавес из пелёнок… Волшебный театр чудесных превращений. Ежеминутных.
Декорации к самой лучшей из сказок. Скажи, неужели эта сказка – ПРАВДА?
– Хочешь – ущипну? – смеёшься ты.
МОЙ МАЛЬЧИК. МОЯ ДЕВОЧКА. МОЙ МИЛЫЙ.
Мои бесконечные монологи, обращенные к вам. Мой мальчик. Моя девочка. Мой милый.
Моё счастливое разрывание между вами. Кормлю дочку – а сама мысленно разговариваю с сыночком, который сейчас за стеной. Или в лесу… Общаюсь с сыночком, пропахшем лесным костром, ветром и соснами, и при этом прислушиваюсь к звону погремушки за стеной… И всё время бегаю на лоджию, выглядываю: где там милый? Не спешит ли к дому его высокая, стремительная фигура – одно плечо чуть ниже другого, под тяжестью портфеля?…
Хочется всё время быть вместе. Сразу со всеми. Тесно, близко. Чтобы обнять сразу всех троих – и не отпускать… Моего Мальчика. Мою Девочку. Моего Милого.
Люблю наш маленький дом. Комнату, разделённую шторой на спаленку (она же – детская), и гостиную (она же – наш рабочий кабинет: кабинет двух писателей, где книги, архивы и компьютер). И кухню, разделённую таким же образом на комнатку сына, тоже пишущего человека, и собственно кухоньку, она же – столовая. Тесно. Всё время касаемся друг друга плечом. Невозможно сделать ни шагу, чтобы не погладить кого-то по затылку, или чмокнуть в щёку.
Ночью я слышу стуки в стену… Это вращается на своём маленьком диванчике мой стремительно растущий мальчик. Во сне, то локтем, то коленкой он даёт нам об этом знать.
Даже чихнуть негде! – вечером, когда оба ребёнка спят. С зажатым носом бежишь в ванную, и там, уткнувшись в мякоть халата, производишь свой полузадушенный чих. То же самое, если вечером вдруг приспичит разбить яичко. Идёшь в ванную и там стукаешь о край умывальника.
Вечерние телефонные разговоры – тоже отсюда, как из батискафа: под мерное журчание вечно испорченного бачка…
Пока думала, что живём мы в квартире, периодически начинала сокрушаться: как же она мала!
И вдруг увидела: это вовсе не квартира – а шкаф! Огромный такой, очень вместительный шкаф: с бесчисленными отделениями – для одежд, рукописей, картин, цветов… И даже место для жизни ещё остаётся! Можно передвигаться, танцевать с Ксюней и принимать гостей.
В каком прекрасном шкафу мы живём! Не в маленьком дому, а в огромном шкафу. Не в маленьком – а в огромном. Чувствуете, милые мои, разницу? Правда, вам сразу стало и веселее, и просторнее?
так назвал наши ночные посиделки Антон. В нашей крохотной прихожей за чаем и за разговорами шёпотом – о них, о наших детках…
Когда оба ребёнка спят, выносим в прихожую чайник и три стула. Третий служит столом. (Отсюда и пошло – “застулье”).
Здесь можно пошелестеть вечерней газетой, и поработать – если есть на это силы…
* * *
Хочется непрестанно видеть глаза моих любимых. Чувствовать их дыхание. Быть в разных уголках нашей бескрайней квартирки – для меня уже разлука. А уж когда мальчик убегает в лес, или милый на работу, – это уже расставание, уже боль; это стояние на лоджии на ветру и вглядывание до рези в глазах в убегающую вдаль фигуру, это – ожидание и непрестанная молитва, пока не вернутся…
Только девочка пока никуда от меня не уходит. Хотя… как знать? Когда она так таинственно улыбается во сне, или когда так горько плачет, не уходит ли она ещё дальше?… Куда-то в свою неведомую вселенную…
Господи, как же я хорошо понимаю, каково ей быть отделённой от меня! Если мне так больно быть отделённой от неё.
Поэтому она так неутешно плачет…
* * *
Звонок старого школьного приятеля. В телефонной трубке – размягчённый голос, за которым слышится, точнее – видится: брюшко, лысина…
– Ну, что, скрипим? – спрашивает он меня.
– В каком смысле “скрипим”? – не поняла я.
– Ну, стареем?…
– В каком смысле “стареем”?
Размягчённый пластилиновый голос откликается неопределёнными междометиями:
– М-м-м… к-хе… н-да…
Вот и поговорили.
* * *
Любопытно: многие из наших друзей не поздравили нас с появлением Ксюши. Словно бы обиделись на нас. За то, что мы не желаем стареть с ними за компанию.
* * *
Свой первый Новый год – 1990 – двухнедельная Ксения встретила в блаженном сне, тихонько посапывая посреди тахты. Такой маленький тёплый воробушек…
“А ЭТО ПРИШЁЛ НАШ БРАТИК”
Каждый раз, когда в комнату заходит Антон, я говорю Ксюше: “А это пришёл наш братик”.
– Она же не понимает ещё ничего, – говорит Антон.
– Но она учится понимать. Н а ш е. Своё-то она прекрасно понимает.
– А у неё есть с в о ё?
– А как же! Она ведь из вечности пришла, она её ещё помнит… она ещё в ней живет. Больше в ней, чем здесь. Но она учится понимать и наше тоже.
И продолжаю:
– Нашего братика зовут Антон. Он пришёл к нам с доктором Споком. Он поваляется здесь на тахте и почитает, и нам всем будет веселее.
– Ну, про Спока это уж совсем лишняя информация, – говоришь ты.
– Как знать… И потом: она же не слова сейчас слышит, а интонацию, настроение.
– И что же она слышит в данную минуту?
– Она слышит: наш братик соскучился по нас.
– Ты уверена, что она это слышит?
– Абсолютно.
– Хм… если это, мама, не твои фантазии, то над этим стоит подумать.
* * *
– Просто тогда я была молодой…
– Мама, а разве ты сейчас не молодая?
– Ну, всё ж-таки не такая, как четырнадцать лет назад.
Смотрит оценивающе. Заключает:
– А по-моему, моложе быть просто нельзя.
Милый мой мальчик!
* * *
Что было первым, что увидела Ксюша в этом мире? – Был багульник. Сухая январская веточка с лиловыми цветами…
– Это – багульник, – сказала я дочке. – Смотри, какие чудесные цветочки, словно бабочки…
И в это мгновение её взгляд сфокусировался на цветущей ветке. И я увидела, как она осознанно и с интересом РАССМАТРИВАЕТ!