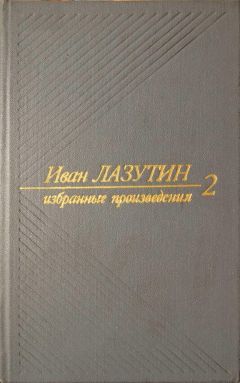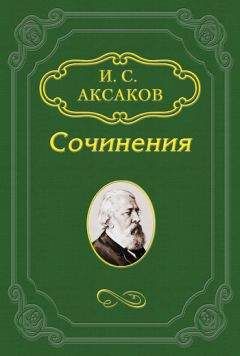Это ее чувство неприязни к молодому гостю Елизавета Семеновна заметила и, покачав головой, дала знать дочери, чтобы та почтительнее вела себя с ним. А Машеньке теперь было все равно… Ей хотелось выскочить из-за стола, убежать куда-нибудь далеко-далеко в лес, упасть в траву и досыта наплакаться. Из головы не выходил Виктор. Она еще не до конца понимала, что случилось. Только вчера, всего только вчера вечером она сидела с ним в саду и они говорили о том, что Машенька станет его женой, что они вместе уедут куда-нибудь в Сибирь…
Машенька посмотрела на часы и почувствовала, как сердце ее сжалось. Было уже девять вечера. Прошло три часа, как они сидят за столом. Через легкую ограду Виктору было все слышно с их открытой веранды. Что он сейчас делает?
Машеньке хотелось, чтобы весь сегодняшний день был сном.
…Когда солнце уже начало заваливаться за зубчатые вершины дальнего леса, ужин подошел к концу. В воздухе стояла стеклянно-прозрачная тишина, настоянная на лимонно-золотистых брызгах заката, которые бликами лежали на всем: на песчаной дорожке, на распустившихся гладиолусах, на кое-где уже тронутом желтизной плюще, карабкающемся на крышу открытой веранды, на зеркально сверкающих боках самовара, который довершал собой полную картину дачного чаепития.
Отяжелевшие Сергей Константинович и генерал, полуобнявшись и в чем-то друг друга убеждая, сидели, забыв обо всем на свете: о дочери, о племянннке-женихе, о женах… Номера полков, дивизий, фамилии командиров, отбитые у врага города, военные госпитали, атаки, наступления — все это унесло ветеранов в далекое прошлое.
— А помнишь, какой был у нас полковой оркестр! — Генерал горестно покачал головой. — Мертвого поднимал на марш! А какие вещи играл! Нет, друг мой, таких музыкантов сейчас не найдешь. Бывало, приедет командующий округом, как рявкнут оркестранты в свои медные трубы — кровь леденела!.. — Генерал махнул рукой и горько вздохнул: — Сейчас не то, Сережа. Совсем не то. Нет настоящей музыки. Не те и музыканты.
С минуту над столом клубилось тяжелое, тупое молчание. Неведомо откуда залетевший мотылек бился о горячую электрическую лампочку. Он скоро сгорит, но все бьется, бьется…
И вдруг… вдруг повисшую над верандой тишину неожиданно нежно и тоненько, очень тоненько, как острой бритвой, разрезали звуки скрипки. И всем в эту минуту показалось, что какой-то незримый чародей скрипач стоял за углом веранды и заставлял своим послушным смычком плакать струны. И струны плакали. Все, как по команде, подняли головы. В наступившей тишине были слышны одни только звуки, летящие из-за темных кустов чем-то опечаленной черемухи. Машенька бесшумно подошла к открытому окну и застыла на месте.
На глазах генерала выступили не то слезы, не то… Нет, это были настоящие слезы. Он слышал свою любимую «Легенду» Венявского. Полки, дивизии, походы, бои, отбитые города — все это сразу, в одну секунду, точно куда-то провалилось.
— Кто это? — спросил генерал, удивленно вскинув седую голову. — Что это? Или мне чудится? Это же Венявский!..
Натыкаясь взглядом на разомлевшие и раскрасневшиеся от вина и обильной еды лица, генерал встал. Чтобы не портить впечатления, рожденного звуками музыки, он подошел к барьеру веранды, закрыл глаза и, слегка запрокинув голову, полностью отдался во власть долетающих из соседнего сада звуков. Эти звуки, сплетаясь с тягучими стонами болотной выпи и с последними пурпурными лучами догорающего солнца, ткали невидимые и неосязаемотонкие кружева человеческого страдания. Но не прошло и несколько минут, в течение которых никто из гостей и хозяев не посмел произнести и слова, как из соседнего сада понеслись уже другие, наполненные горькой иронией и ядовитым сарказмом звуки.
— Вы слышите? Слышите?! Это же Паганини… «Каприз», — прошептал генерал. Но не успел он закончить фразы, как из-за темных поникших кустов черемухи уже летело безудержное веселье испанского танца. Бешеный ритм танца и та страсть, которая вкладывалась музыкантом в каждый звук, словно встряхнули генерала. Он порывисто вскинул голову и дирижировал в такт долетающим звукам.
— Сарасате…
Испанский танец, достигнув зенита своего вихревого ритма, неожиданно оборвался. Через несколько секунд траурные звуки легенды-страдания Венявского снова заполнили темный, таинственно притихший сад. Тоской горького одиночества, песней неразделенной, безнадежной любви лились эти звуки в сердце Машеньки. Она изо всех сил крепилась, чтобы не разрыдаться. «Я люблю вас, Машенька, люблю…» — выговаривала скрипка.
Когда в саду умер последний вздох музыкальной легенды и на веранде наступила траурная тишина, генерал открыл глаза и, испуганно глядя па Сергея Константиновича, вскрикнул:
— Позовите его! Позовите сюда немедленно! Это же великий музыкант! Я прошу вас!..
— Это почти невозможно, — склонив набок голову, с видом сожаления ответила Елизавета Семеновна. — Тот, кто играл на скрипке, тяжело болен.
— Что с ним?!
— У него душевное расстройство. Врачи временно запретили общаться с окружающим миром. Ему предписаны полный покой и одиночество.
— Это же нелепость!.. — Генерал раздраженно развел руками.
— Врачи больше нас знают, Петр Егорович. А потом… — Горько улыбнувшись, Елизавета Семеновна проговорила — А потом, разве…
— Разрешите, я пойду сам!.. — Генерал не дал договорить Елизавете Семеновне и направился к выходу с веранды.
Его остановила хозяйка дома.
— Вам это будет не совсем удобно, дорогой Петр Егорович. Уж если вы так настаиваете, то разрешите мне это сделать самой. Я поговорю с тетей этого молодого человека, может быть, она позволит ему поиграть для нас. — С этими словами Елизавета Семеновна спустилась по скрипучим ступенькам крыльца и скрылась в темени сада.
Обжигая мохнатые, обсыпанные серой пыльцой крылья, из последних сил бился о горячее стекло электрической лампочки мотылек. Машенька стояла, прислонившись спиной к застекленной стене веранды, и, поеживаясь от холода, смотрела на неразумное насекомое, которое по своей наивности само обрекло себя на гибель.
Вскоре Елизавета Семеновна вернулась. Машенька поняла, что она к соседям не ходила. Минут пять она просидела в самой дальней беседке сада, защищенной со всех сторон плющом.
— Все уговоры напрасны. Тетушка даже не разрешила мне пройти в его комнату. У него приступ душевного расстройства.
— Что с ним? — спросил генерал.
— Как ни горько произнести это слово, но… диагноз поставлен профессурой. Шизофрения. А это… вы сами понимаете.
«О боже! — подумала Машенька, полыхая огнем стыда. — Ведь еще только вчера весь дом кружился вокруг этого музыканта, а сегодня его объявили сумасшедшим».
Как ни старалась она прогнать эту мысль, в глазах ее неотступно стояла истатуированная спина, на которой изображены бутылка, пиковый туз и голая женщина. «Нет, нет, мама, конечно, права. Он больше не должен бывать в нашем доме. Его посещение будет шокировать всякую порядочную семью. Тем более об этом не должен знать генерал».
…Воскресный ужин на этом закончился. Генерал, растроганный игрой больного музыканта, от налитой рюмки коньяку наотрез отказался. Поблагодарив хозяев, он учтиво раскланялся, взял с Елизаветы Семеновны слово, что они с Сергеем Константиновичем и Машенькой непременно пожалуют к нему в гости в следующее воскресенье, и, поддерживаемый под руку хозяином дома, спустился по ступенькам в сад.
Елизавета Семеновна шла впереди всех. Вечер был темный, тихий. У забора гостей ждала «Победа», в кабине которой дремал шофер.
Раскланявшись с хозяевами, гости сели в машину. А через минуту красный огонек «Победы» потонул в густой, словно расплавленный гудрон, темноте лесной просеки, по которой петляла пыльная проселочная дорога.
Уставшие от гостей и от неожиданного конфуза с соседом-скрипачом, на которого у Елизаветы Семеновны были особые виды, мать, отец и дочь, избегая разговоров друг с другом и стараясь не встречаться взглядами, разбрелись по своим углам и легли спать. Легли, но долго не засыпали. Думы каждого вертелись вокруг соседа-музыканта.
В ушах Машеньки звучала «Легенда» Венявского.
…Проснулась она рано. На дворе стояло по-осеннему хмурое, дождливое утро. Старинные часы, висевшие на стене веранды, с печальным звоном пробили пять раз. Машенька накинула на плечи теплый халат и подошла к окну, выходившему в соседний сад. Мокрые листья молоденькой березки, которая росла под самым окном, понуро, как траурные флажки, свисали с отяжелевших ветвей и сочились глянцевитыми каплями дождя. Машеньке показалось, что эти капли походили на слезы.
На песчаной дорожке аллеи стояли мелкие ноздреватые лужицы, на которых плясали лопающиеся пузырьки. Шел мелкий, нудный дождь. Водосточная труба, проходившая рядом с окном, тихо и жалобно гудела. Туманные и тягучие, как осенний дождь, мысли, бессвязно сменяя одна другую, плыли в голове Машеньки.