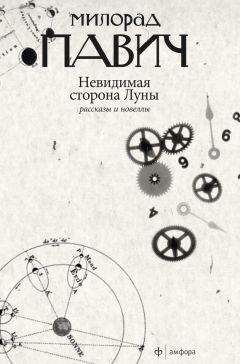Монах вернулся в келью, и в ушах его постоянно звенели колокольчики, будто он носил их сам. Он сел, сунул перо в рот, потом в чернильницу и начал писать… Сочинял стихи, которые должен был перевести. Сначала он писал на языке, на котором некогда говорил государь, а потом, стараясь следовать оригиналу, переводил на язык, понятный всем.
Работа шла медленно, и Спан боялся. Он рассуждал так: «Каждое существо – источник света. Эти источники гаснут и рождаются, точнее – теряют и обретают свою телесность… Поэтому все равно, кто написал эти стихи – он или я…»
И все же страх рос. Двум людям за столом достаточно было развернуть тетрадь, чтобы раскрыть обман. Спан действительно хватался за соломинку…
Однажды они захотели увидеть, что сделано. Он собрал свои бумаги, принес их в зал с длинным столом, но сказал там, что работа еще в самом начале, что требуются огромные усилия, упорный ежедневный труд, чтобы справиться с задачей. Люди за столом посмотрели на него и сказали:
– Все, что ты пишешь – каждую букву, каждое слово, каждую строчку, – береги все это, как бережешь зубы или ногти. Все – и то, что годится, и то, что не годится, – все по завершении работы передашь нам. Не должно пропасть ни одно слово, ибо и эхо имеет цену, если сам голос – святыня. Особенно нужно следить за тем, чтобы ничего не попало в руки потомков. Что касается потомков, то на них рассчитывать не следует. К ним нельзя иметь никакого доверия. В большинстве своем это проходимцы и убийцы. И никакой поддержки от них не получить. Их нужно беречься, как огня. Ты и сам поймешь…
И снова отпустили его, определив срок.
Прошло время, условленный день приближался, а Спан ничего не сделал. Он ничего не закончил, а то, что было им начато, было начато в голове, и стоило раскрыть книгу в красном сафьяне, чтобы убедиться, что произведение Спана совершенно не соответствует произведению из тетради, ибо там на бумаге не было ни одного слова, а он все-таки использовал слова. И это было ясно видно. Он начал сходить с ума, и в последнюю ночь ему показалось, что каждая часть его одежды представляет собой какую-то часть местности перед монастырем: пояс означал реку Ибар, петли для пуговиц – родники в горах, ряса – Столовую гору. Спан явственно чувствовал, что внутри него лежит тяжелая земля с огнем… Земля, которую оплодотворил дьявол.
В свое обычное время, в тот час, когда режут петухов, которые кукарекают прежде времени, люди с колокольчиками в ушах пришли за Спаном. Ему было приказано взять тетрадь в красном сафьяне и все свои бумаги и записи. Когда они вошли во двор, один из двоих людей за столом взял у Спана тетрадь и завернул ее в рубашку. Бумаги Спана взял другой, сложил и запечатал, не заглянув в них.
– Не будет перевода, не будет и обнародована тетрадь в красном сафьяне, – коротко сказали Спану и дали знак людям с колокольчиками.
Те взяли его и отвели в судилище. Там сидели два других человека, которые сказали монаху:
– Объявляем тебя заложником. Люди склонны разгласить тайну престола. Когда-нибудь, рано или поздно, появится кто-то, кто имя, доверенное только двоим неграмотным, запишет и таким образом выдаст тайну. Дабы этого не случилось, мы всегда держим двух заложников. Одного для нынешнего поколения, одного – для будущих. Они отвечают жизнью, что тайна не будет раскрыта никогда. Отныне ты – второй заложник.
– Как же я могу отвечать за того, кто, как вы сказали, еще не родился, что он будет хранить тайну?
– Это твое дело, – возразили судьи и приказали казнить Евтимия Спана.
Последнюю ночь Спан провел запертым в своей келье, думая о человеке, который однажды напишет запретное имя, о человеке, из-за которого он должен сейчас умереть. Спану показалось, что он его видит, и в эту ночь он написал икону, на которой изобразил виновника своей смерти. Это был человек среднего роста, лет пятидесяти, с голубыми, холодными от ужаса глазами, острым носом, нависающим над усами, хищными ноздрями и небольшой бородкой. Он выглядел так, словно наелся больного хлеба. С другой стороны доски Спан изобразил на заре лицо второго соучастника и совиновника своей смерти, который написанное имя прочтет.
Утром его вывели к стенам монастыря и повесили за ноги, так, что слюни текли ему в глаза, и он мочился себе на живот. Его голову засунули в ведро, ударили в грудь копьем и подождали, пока кровь не заполнит посудину. Так он захлебнулся в собственной крови.
Когда казнь была завершена, приговор прочитали, как напоминание, перед всеми присутствующими. Он гласил:
– Ясно, что в будущем родится кто-то, кто, вопреки запрету, имя, которое не разрешено заносить на бумагу, запишет, и кто-то второй, кто это имя, хотя читать его нельзя, прочтет. Поэтому смерть Евтимия Спана основана на законе, ибо он один из заложников за то, что случится в будущем.
3Я, пишущий эти строки, видел в 1979 году в Жиче удивительную икону, про которую мне сказали, что она не освящена и потому не висит вместе с остальными иконами и фресками. В связи с ней я услышал историю о Евтимии Спане, который написал эту икону в последнюю ночь своей жизни. Слышал я и запретное имя неизвестного Неманича, которое передавалось втайне из поколения в поколение. Оно меня заинтересовало, я записал его и начал искать в литературе. Я просмотрел все справочники, рылся в больших библиотеках и архивах, но без толку. Этого имени нет ни в одном словаре, ни в одной энциклопедии, его не содержит ни одна генеалогия Неманичей, ни одна хроника. Лишь когда я все обыскал и установил, что имя сейчас записано первый раз, я понял, что наделал. Записывая это имя, я убил Евтимия Спана. Злодеяние – единственное, что способно дойти против течения времени к нашим предкам, потому что причина в этом течении может располагаться после следствия. Именно так мое преступление вернулось сквозь время к своей жертве, мой правнуков грех пал на Евтимия Спана шесть веков назад. Я – давно предсказанный виновник его смерти.
В этом злодеянии у меня есть один соучастник. Это ты, нарисованный с другой стороны Спановой иконы, ты, кто в названии этой повести уже прочел имя Аксеаносилас.
Стево Ножица Здур, заслуженный машинист из Среднегорья, близ Лики, вытащил раскаленную лопату из топки паровоза, посолил и, пока она еще светилась, бросил на нее кусок мяса. Подождал, пока поезд минует мост, ножом с острым, почти прозрачным лезвием сбросил мясо на хлеб и поужинал. Потом в Госпиче просвистел свое имя гудком локомотива и ушел на пенсию. Он возвращался в Среднегорье, туда, где впервые услышал гудок, пробираясь по снегу с мешком за плечами, тяжесть которого мог в уме распределить на хорошо знакомые предметы в нем. Неся фонарь на палке, он думал, что их с дядей дом далеко и придется спалить целый фитиль, пока до него доберешься. Он думал о том, что этот путь теперь для него гораздо более долог, чем в молодости, и что время можно разменивать на пространство, как бумажные деньги – на металлические. Купюры, думал он, дорогие, как время, но недолговечны, а мелкие монеты, хотя и менее ценные, зато неуничтожимы и всегда имеют вес, как и земля, из которой они сделаны. И еще он думал, как все же невесело будет сидеть одному зимой в большом семейном доме, в котором после каждой смерти пробивали новое окно и вешали в него икону. Дядя Стевана Ножицы, Стево Петохлеб, выше племянника на ступеньку и тяжелее самое меньшее на овцу, собирался с женой и детьми поехать в будущем году колонистом в Банат. Все было готово, бумаги подписаны, нужно было только выбрать дом кого-нибудь из немцев, бежавших с гитлеровской армией, и переселиться в Банатский Карловац, где ночью слышен Дунай, а днем видны аисты, избравшие себе это место столицей. Столица аистов! Что за удивительное место, где им понадобилось закончить свой путь!
С этими мыслями Стево Ножица прошел всю снежную дорогу и сжег фитиль в фонаре. Он очутился за столом из гладкого дерева, за ним, закутавшись в овечью шубу, лежал дядя, а напротив сидела тетя Жута. Было слышно, как в шкафах звенят проволочные вешалки, которых пустых было больше, чем занятых, а на подушечке для иголок булавки звякают о наперстки, словно колокольчики. И ничего больше.
– Что с ним? – спросил Здур Жуту.
Стево Петохлеб никогда не болел, и Здуру было странно видеть его молчаливого и укрывшегося, будто он собрался спать в неурочное время.
– Слушает! – ответила Жута. – С обеда что-то слушает.
– Не слушаю, а слышу! – поправил ее из-под накидки Петохлеб. – Неужели вы не слышите? Стучат где-то, клюют, как тот дедов будильник, в который немцы выстрелили через окно. Только и всего, дед где-то в доме часы спрятал, надо только поискать, и они найдутся, руку даю на отсечение!
И Петохлеб вытянулся на своем ложе. Из-под ноздрей у него торчали два белых уса и, как пинцетом, держали между закрученными вверх кончиками нос.