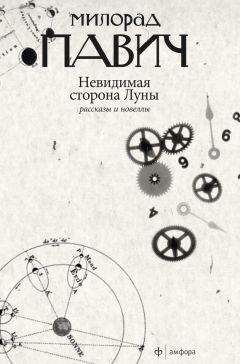И Петохлеб вытянулся на своем ложе. Из-под ноздрей у него торчали два белых уса и, как пинцетом, держали между закрученными вверх кончиками нос.
Петохлеб не умел писать, однако рано, еще от деда Стевана Опачины, научился считать и записывать числа. Так на всю жизнь и остался неграмотным на буквы и грамотным на цифры. Этого ему было достаточно. На восемнадцатом году жизни дед Стево (в честь которого в Среднегорье теперь всегда было два Стевана – «большой» Стево и «маленький») повез его и еще два десятка сельчан в Италию строить дорогу. Он купил юноше белый костюм, модную шляпу, продел сквозь петлицу красный платок и вручил прут, чтобы тот каждое утро на глазах у французских смотрителей, ведущих работы на дороге, шел впереди Стевана, показывал этим прутом на шпалы и говорил.
– А что говорить? – спросил перепуганный парень.
– Что твоей душе угодно, только песни не пой, – ответил дед Стево. – И все время делай вид, будто что-то мне объясняешь и указываешь этим прутом, что делать. А я буду притворяться, что внимательно слушаю, записываю что-то, и кивать головой, будто все понял, и стану переводчиком между ними и тобой… Ты слушай меня! Как тебе в башку вбить? – Здесь дед Стеван прервал свой рассказ. – Кто тебя, дурака, слушать будет, просто пока эти господа здесь, нужно делать так. А потом можешь опять заборы на улице считать и деда спрашивать, можно ли в трактире девку поцеловать, когда она тебе кофе принесет.
Так жили Петохлеб и дед Стеван на строительстве большой дороги вдоль реки По в 1929 году до первого числа месяца, а тогда дед показал Петохлебу платежную ведомость. Безграмотный парень Стево Петохлеб, который еще не научился зашнуровывать итальянские ботинки, стоял в списке первый, а по заработку далеко впереди Стевана Опачины, надсмотрщика за работами, и около его имени стояло звание подрядчик. И это нужно было подписать!
– Не бери в голову, – сказал дед Стеван, – у тебя пять пальцев, и на каждом пальце по имени.
Дед завязал ему руку, сказал, что «подрядчик» поранился на работе, и поднес ведомость, чтобы он приложил палец, как и все остальные. А затем взял обе получки, свою и Петохлебову, и положил в карман.
– Не думай, что это твой прутик принес заработок, – сказал он при этом, – его заслужили твои предки, воюя и своим хребтом подпирая стену державы для венецианцев и Австрии. За это теперь можно и получить. Но, когда получаешь, помни, что сам ты заработал не больше, чем тот молокосос, которого еще в люльке качают, чтоб заснул.
Так молодой Петохлеб рос, работая на дорогах, вырос в человека с богатырскими плечами и широченным размахом рук и пошел на войну, как во двор сыграть в бабки. В Среднегорье знали, что Стево Петохлеба никакая болезнь, никакая пуля достать не могут и что он голым может шагать по снегу, а от него при этом только пар идет. В Шестой Личской дивизии он и его племянник Стево Ножица были знамениты особой походкой, при которой попасть в них было невозможно и которую они использовали при атаке на открытой местности: шаг левой ногой, присесть, снова левой ногой и снова присесть, потом один шаг на месте и приседание, и один правой, и один на месте, и снова левой. Когда их спрашивали, как это у них так быстро получается и почему они знают, что немцы в них не попадут, они отвечали:
– Да это просто, парень, будто коло[8] танцуешь!
Впрочем, Петохлебу всегда говорили, что ноги ему однажды будут стоить головы. Он имел особую страсть из тех, которые похожи на чувство голода, и во время войны не уменьшаются, – страсть к охоте. Он мог идти по следу из ночи в ночь. Нюх у него был такой же сильный, как голос, глаза ему служили в темноте лучше, чем во сне, и он большими кругами рыскал вокруг идущей колонны и выискивал рассыпанные по снегу следы. Так петляя, он прошел во время войны в два раза больше других, и его постоянно предостерегали:
– Не иди по следам в снегу! Тот догадается, вернется и дождется тебя в засаде у своих следов. Погибнешь, и ахнуть не успеешь…
Но Петохлеб не погиб. Единственное, как-то зимней ночью в 1943 году следы привели его в небольшую хижину, еще теплую от врагов. Он переночевал в ней и проснулся с неясным ощущением, что в хижине была какая-то зараза. С ощущением гадливости он ушел утром по снегу, но и это быстро забылось.
Война закончилась, и их отправили на строительство дороги. Стево Петохлеб варил деготь, настаивал его как ракию и продавал в Госпиче и Книне за хорошую цену, потому что сосновый корень для дегтярниц[9] он извлекал с метровой глубины, где тот самый лучший и самый недоступный. Женился он на ходу, в партизанском отряде на марше. Его жена Жута то ли из колыбели, то ли из войны вынесла странное опасение, как бы чего не случилось раньше времени или не так, как надо. Когда Петохлеб отправлялся из дома, она обязательно выходила за ним к воротам и проверяла, завернут ли хлеб, застегнут ли Петохлеб, взял ли он в дорогу сыр и солонину. Потом долго говорила ему вслед, когда он слышал уже только шум ручья около дома, но вовсе не ее напрасные и отчаянные призывы не строить дома на песке. Понуждаемая желанием все приготовить и сделать добросовестно, спокойно и до конца, Жута вставала на три часа раньше всех женщин в селе и завела с Петохлебом детей самое меньшее на шесть лет раньше, чем решилась бы на это сама, если бы ее спросили. Обеды готовились ею с таким старанием и вниманием, что были великолепны, и ставились на стол каждые три дня. Она была довольно красивая, и Стево Ножица, глядя на дядиных детей, таких мохнатых, что, казалось, волосы у них, если бы было можно, росли и из пустоты в ушах, удивлялся, что творение не дополняет творца, а дети – мать: люди не так относятся к Богу, как свет к солнцу…
– Ну не зашивают же зеркало в шапку! – порой вскрикивал Петохлеб из темноты. – Зачем ему часы на чердаке? – И вставал среди ночи искать то, что стучит где-то под крышей.
Потом возвращался с глазами, затянутыми паутиной, подражая непрерывному тиканью часов.
– Черт возьми, неужто не слышите? Жута, послушай, вот час ночи пробило, – лязгая зубами, кричал Петохлеб.
Жута переворачивалась, дети просыпались, но от отцовского голоса, а не от боя часов, которых не было в доме, как не было ни единого гвоздя, ибо он держался на деревянных клиньях и скобах.
Так прошли первые дни и ночи Стевана Ножицы на пенсии. Он крутил головой, глядел украдкой на дядю и пришел к выводу, что тот заболел, но не потому, что все искал по дому спрятанные часы, а потому, что не выходил из дома и только тень отбрасывал на улицу, стоя вечерами в открытых дверях.
Жута отсчитала на связке чеснока зимние дни и недели и на каждую головку (кроме тех, что обозначали постные дни) повесила по колбаске, куску солонины или сушеного мяса, свиному копыту, поросячьему уху или нафаршированному говяжьему рубцу. Этот поварской календарь она держала под потолком и уже приканчивала последние куски зимнего мясоеда, когда Петохлебу впервые пришла вдруг в голову мысль, что часы, которые он так усердно искал, коли их не обнаружили, могли остановиться и теперь их, запрятанных в тишине дома, уже никогда не найти. От этой мысли у него сделалась лихорадка как раз в то время, когда нужно было ехать в Банат, смотреть отведенный им дом и хозяйство.
Вместо него поехал Стево Ножица. У него был бесплатный проезд по железной дороге, и ему легче было съездить, чем обуться.
* * *
В Банатский Карловац, поселок возле песчаных карьеров, некогда заселенный немцами, а сейчас, после войны, почти пустой, он прибыл в полдень и сказал:
– Э, да здесь ни одной души нет, чтобы не хлебала гусиный суп с лапшой!
Пройдя сквозь гусей, которые бегали по двору, раскрыв крылья и наводя ими страшную тень, он вошел в сени дома, который ему был нужен. Там он увидел гору сапог, больших и маленьких, и громко прищелкнул языком. Вышел мужчина со взъерошенными волосами и короткой бородой, с кусочком лапши в усах, босой. Обулся, пряча улыбку под ладонью, и отвел гостя к большому «швабскому» дому, стоящему за облицованными широкими воротами, с окном над входом и голубятней над выходом. Представитель общины шел впереди и показывал дом и огород за ним, окна с собственной крышей и водостоком, стойла и амбары, сараи и подвалы, забитые давно пустыми бочками, воняющими голодным желудком и алчными устами. Все было пусто и некогда явно содержалось в чистоте. Сейчас на полах из крашеных досок лежала пыль, а кое-где сохранились окна с цветами, нарисованными на матовом стекле. На стекле все еще оставалась надпись: «Gute Nacht!»[10], которую можно было прочитать с улицы, когда в доме зажигают свет.
– Это все вам, дорогой товарищ, – сказал общинник Здуру, когда они остановились во дворе у колонки с небольшой ручкой. При этом он нажал на ручку, и потекла вода.
– Всё? – спросил Здур и остановил воду. – А склеп?
– Склеп?
– Нам сказали, что к каждому немецкому дому полагается и семейный склеп на кладбище.